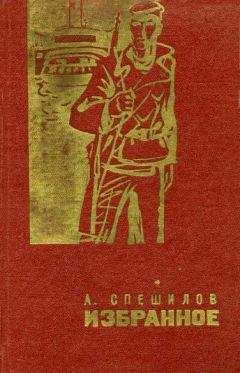— У нас просьба к вам большая, товарищи, — говорил Ефимов. — Мы, когда бываем в деревнях, объясняем крестьянам политику Советской власти, читаем газеты, беседуем о декретах. Но этого недостаточно. Много у нас еще темноты осталось от царского строя. Учительство должно помогать нам бороться с этим. Вот о вреде религии надо им доклады читать. У нас в отдаленных деревнях, сами знаете, орудуют красноверцы. Главный их наставник Никольский купец и кулак Рукавичкин сулит своим единоверцам рай на том свете, а сам себе рай при жизни устроил.
— А если кто не желает помогать вашей власти? Силой заставите? — послышался чей-то голос.
Ефимов ответил спокойно:
— Зачем же заставлять силой? Мы с такими не церемонимся. Кто не с нами, тот против нас.
— Кто это говорит? — спросил я. — Пусть покажется.
С задней парты поднялся прапорщик Романов.
— Я говорю. И утверждаю, что русской интеллигенции, учительству с вами не по пути.
Многие возмутились выходкой Романова.
— Он не имеет права говорить от имени учителей. Он клевещет на учителей, — заявила Фина Суханова. — Если господин Романов не считает Советскую власть своей властью, его дело. Но зачем же на нас клеветать? Мы, преподаватели строгановской школы, согласны с вашим предложением, Павел Иванович. Сама я готова поехать в какую угодно деревню. Пошлите в Боровскую десятню… Завтра же поеду…
Романов еще что-то пытался сказать, но Охлупин, сидевший с ним рядом, дернул своего приятеля за рукав и прошипел:
— Высунулись не вовремя. Молчите. А лучше уходите отсюда.
Романов, по-военному стуча каблуками, вышел из класса. Охлупин, озираясь по сторонам, встретился взглядом со мной и понял, что я слышал их разговор. На лице его появилась деланная улыбка, он сказал:
— Ведет себя, как мальчишка. Пусть остынет на морозе…
Фина продолжала горячо говорить:
— Надо признать, что мы совсем не бываем среди населения. В школе учим ребят одному, а они слышат от родителей другое. Не обижайтесь на меня, Аристарх Владимирович, — она повернулась к Кобелеву, — вы часто бываете в деревенских школах, а провели хоть одну беседу с крестьянами?
— Простите, Фаина Ивановна, — возразил Кобелев, — Но о чем я буду говорить с мужичками? Об истории искусства? Об архитектуре? Не пойму. Подскажите.
— Подскажу. Научите их печные трубы класть, чтобы черных изб не было. И в этом будет большая польза… Вы инженер. Беседуйте о технике… А придет время, так наши крестьяне потребуют лекции и по истории искусства, товарищи.
Через несколько дней, в воскресенье, от волостного исполкома разъезжались дежурные подводы — учителя строгановской школы отправлялись по деревням с первыми своими докладами и беседами. Мы с Финой поехали в Боровскую десятню.
Быстро промелькнули постройки села. Дорога завела нас в лес. Иногда в просветы между деревьями открывались широкие прикамские дали. Вот далеко на горизонте дышит завод, на склоне лесного холма раскинулся поселок.
Перевалив несколько холмов, мы въехали в глухой лес. Столетние ели сплетались вершинами, не пропуская лучи солнца.
Дорога была плохо наезжена, крестьянская лошадка до лодыжек тонула в снегу. Дремал на передке саней наш возница, подремывали и мы с Финой.
Через три часа езды показался занесенный снегом плетень, дорога стала глаже, и мы въехали в лесную деревню.
Подъехали к школе. У входа толпился народ. Поздоровавшись с крестьянами, я спросил:
— Собрание, что ли, в школе?
— Хуже, — ответили мне. — Какой-то оратель, слышь, из городу приехал. Всех в школу загоняют.
— Кто-то, значит, нас предупредил, — сказала Фина, вылезая из саней.
К нам вышла учительница и провела в свою квартирку.
— Грейтесь пока, — сказала она. — А я пойду в класс.
— Кто к вам приехал? Откуда?
— Из Никольского проездом, а сам из города… Говорит очень странно…
Мы разделись, немножко погрели руки у железной печки и отправились в класс.
На детских партах сидело здесь человек тридцать местных крестьян.
За столом, важно развалившись на стуле, восседал приезжий.
Он, по-видимому, уже окончил доклад и отвечал на вопросы.
— Свобода печати — это когда каждый гражданин имеет право печатать газету и писать в нее, что захочет, как, например, в Англии.
Постоянно встречаясь с Паниным и Ефимовым, читай газеты, я во многом начал уже разбираться. Конечно, не обходилось дело и без помощи Фины.
Слова докладчика заставили меня насторожиться. И я спросил:
— А если контрреволюционер захочет напечатать статейку против Советской власти?
— Имеет полное право. На то и свобода печати.
— У нас, значит, по-вашему, нет свободы печати? — спросила Фина.
— Нет! Потому что Центральный Комитет партии большевиков ведет в этом вопросе неправильную политику. Что касается свободы слова, то каждый гражданин в свободном государстве может говорить все и везде, что только он пожелает, и мешать ему в этом никто не имеет права.
«А тебе я помешаю», — подумал я и предложил сделать перерыв. Я понимал, что засидевшиеся слушатели меня поддержат.
Так и получилось.
— Правильно. Покурить бы. Битый час сидим.
— А не разойдетесь по домам? — спохватился проезжий.
— Нет! Все-таки занятно послушать.
Мужики вышли в коридор и на школьное крылечко. А мы вслед за проезжим прошли к учительнице.
— Ваши документы! — потребовал я.
— Какое вы на это право имеете? — заносчиво ответил проезжий.
— Я красногвардеец.
— А откуда это видно?
Человек явно тянул волынку, и мне пришлось отстегнуть наган.
— Что вы, товарищ! Я пошутил.
Мандат у этого человека был в полном порядке и самый серьезный — от губернского комитета партии.
Это был посланный из Москвы в нашу губернию известный впоследствии оппозиционер, противник политики нашей партии.
Губком послал его по деревням с докладом о религии, как было написано в мандате, вручив таким образом оружие в руки врага.
Пришлось его арестовать и везти в Строганово. Первая наша беседа с крестьянами Боровской десятни не состоялась.
Продержали мы «докладчика» дней десять под арестом и только после настойчивых требований губернского начальства отправили в город.
«Ведь до чего же, — думал я, — был прав Ефимов, который предложил учителям беседовать с населением и нам чаще бывать в деревнях. Кто знает, какие проезжие агитаторы бывают в отдаленных местах волости».
1
Михаил Васильевич Пирогов, наш красногвардейский командир, он же заведующий земельным отделом, дни и ночи сидел за подготовкой перемера и распределения земли. Дело это было очень кропотливое. Надо было проверить планы земельных угодий, вычерченные еще при царе Горохе, сверить их с поземельными книгами каждой деревни, тоже старыми и донельзя запутанными. Пришлось составлять новые книги и выезжать для этого на поля. Бедняки помогали выяснять истинное положение дел. У кулаков оказались сотни десятин скрытой пашни. Они не платили никаких податей и налогов.
Начали прибывать дни. Появились перелетные птицы. С крыш закапало. В кузнице спешно ремонтировали мерные цепи, клеймили новые межевые столбы. Опустело Строганово и бурлацкие поселки. Речники разъехались на пароходы. Получил назначение дядя Иван. И нас с Паниным снова потянуло на Каму.
Каждый раз, когда в исполком привозили почту, мы нетерпеливо перебирали конверты и пакеты, не попадет ли, наконец, письмо из рупвода с вызовом нас в затон. Но таких писем не было. Вместо этого меня и Панина вызвали в Никольское в Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности и назначили на работу в нашу волость, «навечно высадили на сухой берег», как выразился Панин. Он злился на весь свет, а во сне кричал: «Есть самый полный!»
А про себя мне и говорить нечего. В свободное время я часами простаивал на берегу Камы. Любовался, как весенние ручьи миллионами мутных струй сбегают в реку, как на глазах ширится она, отрывая лед у берегов и поднимая его на свою могучую грудь. Казалось, стоит только щуке ударить хвостом по ноздреватому, изъеденному солнцем ледяному покрову, и он рассыплется на множество мелких льдинок, понесется по быстрым волнам в низовья. Я закрывал глаза. Мне чудились радостные весенние свистки пароходов, бурлящий шум оранжевых плиц, крики наметчиков, клекот парового, штурвала.
Я заметил, что не одни мы с Паниным тоскуем о реке. Даже Меркурьев нет-нет да и выйдет на бережок, постоит, поговорит что-то сам с собою и медленно плетется обратно.
Все теплей и теплей стало греть весеннее солнце. На высоких местах появились проталины. На лесных полянках по утрам затоковали глухари, запел песню серокрылый жаворонок.