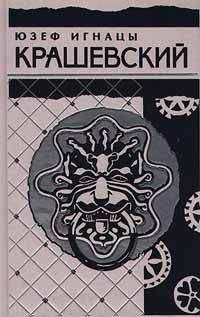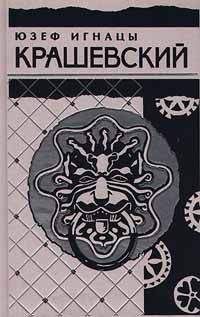всегда достигающий далёкой глубины, так что полей и лугов почти не было. Иногда появлялся немного лысый пригорок, но и на нём лежали поваленные ветром стволы и торчали новые отростки.
Ни постоялого двора, который обещали немцы, ни деревни, ни хаты видно не было.
Мшщуй, по правде говоря, имел дорожный шатёрик, а мог и в шалаше отдохнуть, но вроцлавяне из-за еды и коней ночью ехали в постоялый двор, а Валигура не хотел оставлять спасённых. Темнота спешить не давала, ехали все в глухом молчании, которое прерывало только бормотание молитв, бряцание оружия и снаряжение коней. Время казалось долгим.
Уже могла быть полночь, когда наконец немцы сказали, что заметили свет, постоялый двор стоял в небольшом отдалении. Лес поредел…
Свет был виден не из дома, но из лагерей, которые вокруг него разложили путники. Стоял на ночлеге у постоялого двора какой-то купеческий караван с возами и разные путники, каждый со своим двором, запалив маленькие костры. Как только вдалеке послышался топот приближающихся коней, в спящих уже лагерях вскочила стража, костры зажглись ясней… даже спящие вставали из страха какого-то ночного нападения.
Затем вокруг раздались пароли и вопросы – и Валигура с ужасом убедился, что все путники были немцами. Пересекались вопросы и ответы, после которых начали успокаиваться.
Немец сразу побежал в постоялый двор искать приюта для женщин, готовый даже повыбрасывать тех, что его заняли; но ни для кого там места не было, потому что, кроме сарая и жалкой мазанки при ней, в которой торговали пивом, ничего не нашли.
В сарае стояло несколько коней… Поэтому для двоих путешественниц, которые, как стояли, в плащах, решили отдохнуть на земле, постелили сукна и ковры, положили их по кругу, а неподалёку Мшщуй со своими людьми начал располагаться. Сам уже не желая навязываться женщинам, через каморника послал им свой шатёр, чтобы заслонил их немного от холода; не нуждался в нём сам, потому что ко всему был привыкшим. Для старой немки он не сделал бы этого подарка, но жаль ему было черноокой, грустной итальянки или француженки.
Ночь была беспокойная, и только более уставшие могли заснуть среди коней, которые отрывались, бросались, и людей, что на них кричали, прохаживающихся среди стражи, дыма, который ветер гнал от костров, то гаснущих, то деревом поддерживаемых до дня, и ветра, который начал дуть после полуночи. Из каждой кучки кто-то должен был бдить, потому что ближе к рассвету путники начали суетиться, а те могли своих и чужих взять в дорогу с собой.
Ссоры и шум, поднятые с рассветом, не прекращались уже до утра. Осенний день обещал быть хмурым и мрачным. Он начался с молитв под шатрами, с которыми эти женщины сели на лошадь. Младшая обернулась, словно ища глазами Мшщуя; когда его заметила, снова быстро приблизилась к старшей спутнице. В дороге она показывала ей и некоторое уважение, и в то же время превосходство над ней, потому что старшая выдавала приказы, обращалась к людям и призывала их к себе, не спрашивая ни о чём молчаливую младшую.
Та ехала с опущенной головой, равнодушная ко всему. Приближение к цели путешествия не только, казалось, не радует её, но Мшщуй вполне мог думать, что всё больше беспокоило.
Около полудня они попали в небольшое поселение, при котором стоял деревянный костёльчик, а так как коням было необходимо там попастись, старшая пожелала пойти и помолиться. Мшщуй, плохо слыша издалека, догадался, что младшая, отговариваясь усталостью, хотела остаться на отдых. Оставлять там её одну та не очень хотела, и после долгих перешептываний и уговоров она направилась к костёлу.
Валигура, который расположился с людьми немного дальше, после её ухода, ведомый любопытством, которому не хотел сопротивляться, приблизился не спеша к месту, где младшая путешественница, притулившись к сену, села под крышей. Она сразу его заметила, а так как вовсе не хотела его избегать, Мшщуй приблизился смелее.
Немцы сбоку готовили себе еду – поэтому он мог начать разговор, и сказал, что ночь была без отдыха… и, наверное, им срочно надо было доехать до Вроцлава.
– А! Милый господин, – сказала мягким голосом печальная женщина, – давно желаю отдыха, но разве я знаю, какой меня там ждёт!! Я, как видите, из далёкого чужого края – тут мне всё чужое и страшное. Иной обычай, небо и люди…
– А что вас сюда загнало? – спросил сострадательно Мшщуй.
– Сиротство моё, – сказала женщина. – Я не имела ни отца, ни матери, потому что та умерла в детстве, а отец погиб в одном из крестовых походов. Воспитала меня из милосердия сестра той княгини, которая теперь из памяти к королеве Агнессы из Мерана пожелала взять меня к себе. Меня зовут Бьянка, пожалейте меня благородный муж.
Говоря это, она быстро вытерла слёзы.
– Говорят о княгине Ядвиге, что она сострадательна, добра и набожна, – сказал Мшщуй, утешая сироту.
– Набожная, очень набожная и святая, и сострадательная к бедным, но к себе жестока и безжалостна ради тех, которых любит, потому что одно только счастье знает для себя и для них – в мученичестве!! Меня, сироту, при той пани ждёт монастырь и могильная жизнь… а я – а меня Бог для неё не создал!
Она докончила слезливо и тихо.
Мшщуй почувствовал себя взволнованным. Эти признания, такие внезапные и искренние, доказывали великий страх и отвращение, какие испытывала сирота при одной мысли погребения её в монастыре.
– Всё-таки силой вас не будет принуждать к жизни, которой не хотите, – произнёс он.
– А что же я предприму? Куда денусь, если заслужу гнев и немилость моей единственной опекунши? – говорила Бьянка. – Вы, может быть, слышали о несчастной судьбе той, что меня воспитывала… была королевой и стала изгнанницей.
Умерла от горьких слёз, которые должна была глотать… У меня был угол при ней, потом я осталась без опеки. Набожная княгиня Ядвига послала за мной… нескоро нашли меня, у новой семьи, которой я сужила на дворе, и где у меня была тяжёлая жизнь. Мне казалось это спасением…
Сестра Анна, полумонашка, которую прислали за мной, столько мне по дороге наговорила о княгине, что в меня вселилась тревога. А там, где я жила, хоть у меня не раз горько текли часы, немного было свободы, воздуха и, хоть чужого, веселья, а там! Там! Среди этих стен… при этой суровой даме…
Бьянка, плача, живо говорила, и, сама упиваясь этими жалобами, показывала всё больше тревоги и беспокойства.
Поглядывала на Мшщуя, как бы умоляя его о милосердии и опеке. На Валигуру это повествование,