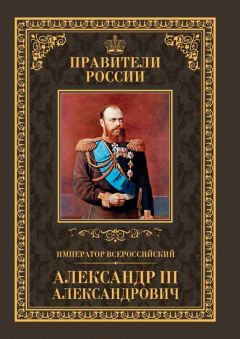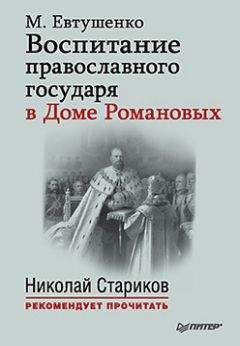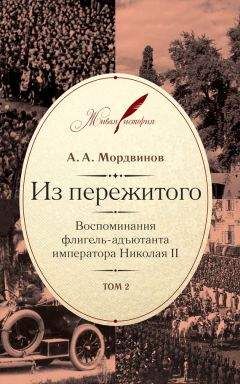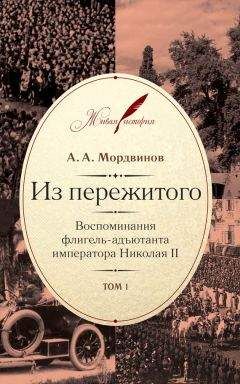– И при этом от мамá батюшка не слышал ни единого упрёка! Ни намёка о своём унизительном положении! – горячился Павел.
– Нет, как-то у мамá вырвалась одна фраза, – возразил Александр Александрович. – Однажды она указала на комнаты этой авантюристки и сказала: «Я прощаю оскорбления, наносимые мне как императрице. Но я не в силах простить мучений, причинённых супруге…»
– Да, эта Долгорукова так измочалила и высосала отца! – грубовато добавил Павел. – От него ничего не осталось! У него впали щёки, он горбится, тяжело дышит. И причиной всему эта фифочка!..
– Представьте себе. Сегодня я, как обычно, был с утренним докладом в Зимнем, – сказал наследник. – И когда дошёл до тёмного коридора, из кабинета вышла Долгорукая. В пеньюаре! – Он щёлкнул крышкой брегета[102]. – Однако пора бы припожаловать дяде Александру. Поезд опаздывает почти на полчаса…
Разговор переместился на ожидаемых особ. Цесаревич с Владимиром дружно недолюбливали кузена – князя Болгарского. Уж лучше бы в Тырново избрали принца Вольдемара Датского[103]. Но батюшка желал видеть князем своего любимого племянника, и великое народное собрание Болгарии не смело ослушаться. С чего же начал Александр Баттенберг? Смешно сказать, с претензий именоваться не светлостью, но высочеством! А уж потом дал волю своим истинно немецким чувствам, когда собрание принесло приветствие России и русскому императору.
Не то отец Баттенберга, дядя Алекс, брат Марии Александровны. Генерал-майор русской службы, он отважно дрался на Кавказе против Шамиля и женился на дочери русского генерала. Правда, наследник не одобрял морганатические браки, словно эпидемия, распространившиеся при европейских дворах и заразившие Петербург. Однако дядя казался исключением. Наконец из тьмы показался пятиосный паровоз, предупреждая о себе дрожащим рёвом. Всё реже кидая горячим паром из-под цилиндров, он тормозил, так что вагоны тяжело стукнулись буферами. На перрон молодцевато спрыгнул болгарский офицер в смушковой шапке с красным верхом и в короткой чёрной шинели, а за ним тотчас показались принц Гессенский и князь Болгарский, оба в русской военной форме: дядя числился шефом уланского Вознесенского полка, а кузен состоял в списках Смоленского пехотного.
Обнимаясь с Баттенбергом, глядя сверху вниз на его длинноносое, с редкой бородкой и усиками лицо, цесаревич подумал: «На тебе русский мундир, но под ним бьётся прусское сердце!» Словно угадав его мысли, кузен спросил:
– Und die Tante Mari? Wie steht es mit ihre Gesund?[104]
– He теряем надежды, – ответил ему наследник.
– Дай Бог пережить ей эту ужасную петербургскую зиму, – по-русски же отозвался принц Гессенский. – А там весна, благодатный Крым, Ливадия…
Упоминание о Ливадии больно укололо цесаревича. Он прекрасно знал, что большую часть времени отец проводит не во дворце, а в скромных покоях в Бьюк-Сарае. Желая переменить тему, он спросил:
– Что новенького, дядя Алекс, слышно в Вене?
Фельдмаршал-адъютант австрийской армии, принц Гессенский только хмыкнул в ответ:
– Спроси-ка, Саша, лучше об этом у князя Бисмарка…
Да, заговор Европы против России продолжался, и душой его был канцлер Германии. На позорном Берлинском конгрессе 1878 года победительница Турции склонилась перед волей Европы, пожертвовала интересами только что освобождённого ею славянства и вынуждена была отказаться от некоторых своих территориальных приобретений. Это был удар по русскому национальному самосознанию. Вождь славянофилов Иван Аксаков отозвался на Берлинский конгресс[105] пламенной речью:
«Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побеждённую? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, молишь простить твои победы?.. Едва сдерживая весёлый смех, с презрительной иронией похваляя твою политическую мудрость, западные державы, с Германией впереди, нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, подклоняешь под неё свою многострадальную голову!..»
Александр Александрович давно следил за выступлениями Ивана Аксакова и глубоко им сочувствовал.
«Что бы ни происходило там, на конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен её венчанный оберегатель, он же и мститель! Если в нас при одном чтении газет кровь закипает в жилах, что же должен испытывать царь России, несущий за неё ответственность пред историей? Не он ли сам назвал дело нашей войны «святым»? Не он ли, по возвращении из-за Дуная, объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских городов, что «святое дело» будет доведено до конца? <…> Долг верноподданных велит всем надеяться и верить, – долг же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царём и землёй, между царской мыслью и землёй, между царской мыслью и народной думой. Ужели и в самом деле может раздаться нам сверху в ответ внушительное слово: молчите, честные уста! гласите лишь вы, лесть да кривда!»
Под давлением либералов папá приказал закрыть Московское славянское благотворительное общество, а самого Аксакова выслать из первопрестольной в деревню…
Однако политика уступок только усилила аппетиты князя Бисмарка. «Русские воспитаны на искусственной ненависти ко всему немецкому», – твердил он. Договор Германии с Австро-Венгрией[106] ни для кого уже не был секретом. В нём была заинтересована, конечно, всего более Вена из-за столкновения русских и австрийских интересов на Балканах. Вильгельм Прусский, дядя Александра II по матери, долго колебался, прежде чем решился на этот шаг. Только угрозой отставки Бисмарк добился его согласия.
– Вот и верь после этого немцам! – грубовато ляпнул наследник.
– Ах, да довольно политики, – щадя национальные чувства дяди, перебил его Владимир Александрович. – Нас ждёт обед, отличный повар, прекрасное вино, добрая беседа…
«Да, о чём ни заговоришь с Володей, – подумалось цесаревичу, – он вскорости свернёт либо на гастрономию и вино, либо на свою любимую музыку…»
В карете, которая шибко понесла зимним Петербургом, мысли Александра Александровича, очевидно не без влияния брата Владимира, приняли иное направление. Он думал о том, как славно войти с мороза в тепло, кинуть на ходу плащ-накидку ловкому слуге, подняться лестницей Собственного подъезда, сесть за обильный стол и под скользкие, мыльные грузди дёрнуть добрую чепаруху[107] водки.
Зимний уже блистал огнями, надвигался белой громадой, манил теплом и уютом.
Едва цесаревич с гостями дошёл до тёмного коридора, примыкающего к кабинету государя, как прозвучал страшный гул, всё заходило под ногами и газовое освещение во дворце разом погасло. Взрыв был такой силы, что жители Петербурга высыпали на улицы; над Зимним дворцом поднялось густое облако дыма.
«Что с отцом?!» – со страхом подумал наследник.
Ещё оставались свежи воспоминания о взрыве 19 декабря прошлого года: у самой Москвы был сброшен с рельсов свитский поезд со служащими императорской канцелярии и багажом государя. Тогда под полотном железной дороги на глубине двух метров были найдены остатки мины и обломки электрического прибора. От этого места шёл подкоп длиной в восемьдесят метров к сторожке, расположенной возле самого полотна дороги и снятой инженером, который назвался Сухоруковым. В нарушение порядка поезд государя проехал раньше свитского и только потому уцелел. После взрыва человек исчез. Император воскликнул тогда: «Чего хотят от меня эти негодяи? Что травят они меня, как дикого зверя?..»
В кромешной тьме цесаревич отчаянно крикнул:
– Па!.. Где ты?..
– Я здесь, Саша! – с напускным спокойствием, твёрдо отвечал государь. Он только что вышел из кабинета навстречу гостям.
Получасовое опоздание принца Гессенского и князя Болгарского, возможно, спасло жизнь всей царской фамилии.
Взрыв раздался со стороны Зелёной столовой, где уже всё было готово к обеду. Наследник и его братья бросились туда; император поспешил на третий этаж. «Побежал к Долгорукой!» – с неожиданной злостью подумал Александр Александрович.
Слуги принесли свечи, и цесаревич увидел, что в столовой вылетели стёкла, стены дали трещины и драгоценная мозаика покрылась густым слоем пыли и извёстки. В окна со двора доносились страшные крики и была заметна чрезвычайная суматоха. Наследник с Владимиром побежали в помещение главного караула, где стонали и просили о помощи десятки солдат. Дым был так густ и горек, что невозможно было дышать. Цесаревич натыкался в темноте на мечущуюся перепуганную челядь, которая искала спасения. В караульном помещении, как раз под Зелёной столовой, ему предстала страшная картина.