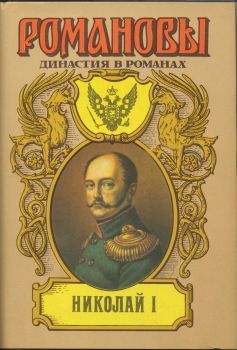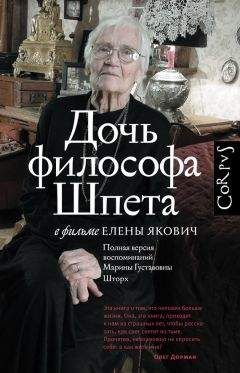– Так-то, государь мой милостивый! Из примера сего видеть можно, сколь несовершенны и обольщению подвержены человеческие чувствования, сии наружные двери нашего истукана механического. Уж ежели хлопанье калитки от пушечной пальбы отличить не умеем, то много ли стоят все наши гаданья высокоумные о природе вещей и о законах естества сокровеннейших?
– А ведь о фрыштыке-то[74] мы и забыли, – спохватился Фома Фомич. – Сию минуту на кухню сбегаю. Кофейку, яичек, бульонцу, а может, и кашки рисовой?
Маринька только махнула рукою, и старичок выбежал. Голицын долго лежал с закрытыми глазами. Маринька, присев на край постели, молча гладила рукой руку его.
– Какое число? – наконец спросил он.
– Восемнадцатое.
– Значит, три дня. Заболел утром, во вторник?
– Да, во вторник. Камердинер с чаем вошёл и увидел, что вы лежите на постели, нераздетый, в жару и в беспамятстве.
– Бредил?
- Да.
– О чём?
– Да вот всё об этих выстрелах. И ещё о звере. Что какого-то зверя надо убить.
– А помните, Маринька, я вам говорил, что мы с вами увидимся? Ну, вот и увиделись…
Посмотрел на неё долго, пристально. Хотел спросить, знает ли она о том, что было Четырнадцатого, но почему-то не спросил, побоялся.
– Я всё знаю, – сама догадалась она. – Бабушкин дворецкий, Ананий Васильевич, был на Сенатской площади. Прибежал к нам вечером и рассказал. Он и вас видел…
Вдруг замолчала, наклонилась, обняла его, прижалась щекою к щеке его, спрятала лицо в подушку и заплакала.
– Ну, полно, Маринька, милая, девочка моя хорошая! Ведь вот, я с вами, и мы уже никогда…
Хотел сказать: «никогда не расстанемся», но почувствовал, что не обманет: она всё уже знает не только о прошлом, но и о будущем; оттого и плачет над ним, как живая над мёртвым, – навеки прощается.
Где, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой – гроб, жених – мертвец, –
вспомнилось, как читал Софье Нарышкиной.
– А вот и фрыштык, – сказал Фома Фомич, входя в комнату с подносом в руках.
Маринька вскочила и убежала. Старичок посмотрел ей вслед, покачал головою, вздохнул, взглянул на Голицына, но ничего не сказал: должно быть, тоже почувствовал, что нельзя его обмануть и утешить ничем.
Во время завтрака, чтобы развлечь больного, говорил о делах посторонних – о выкупе Черёмушек, об искусстве доктора, который лечил Голицына, о болезни бабушки: узнав о бунте, старушка перепугалась так, что слегла в постель, едва удар не сделался; никого из дворовых пускать к себе не велела – боялась, что зарежут: помнила бунт Пугачёва. «Шутка сказать, в одном Петербурге – сорок тысяч холопов; только и смотрят, как бы за ножи взяться. А всё м а р т ы ш к и наделали…»
– Какие мартышки? – удивился Голицын.
– А у Державина помните:
Мартышки в воздухе летают.
Так вот, они самые, – объяснил Фома Фомич, – мартинисты, масоны и прочие вольнодумцы безбожные. «Прыгали, – говорит, – мартышки, прыгали, – ну, вот и допрыгались. Будет и у нас то же, что во Франции!»
Голицын улыбнулся, а старичку только того и надо было. Вынул из кармана газетный листок, прибавление к «Санкт-Петербургским Ведомостям», с правительственным извещением о бунте Четырнадцатого. Голицын хотел прочесть, но Фома Фомич не позволил; опять полез в карман, достал кожаный футляр, вынул из него очки с большими, круглыми стёклами, тщательно протёр их платком, неторопливо надел, откашлялся и стал читать.
– «Вчерашний день будет, без сомнения, эпохою в истории России, – читал он своим тихим, слабым, как бы далёким голосом. – В оный день жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что государь император Николай Павлович воспринимает венец своих предков. Но Провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать для нас и печальным происшествием…»
Далее описывался бунт, как маленькое замешательство войск на параде.
– «Две возмутившиеся роты построились в батальон-каре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках».
– А ведь это я! – усмехнулся Голицын, и Фома Фомич ответил ему из-под очков такой же усмешкой.
– «Небольшие толпы окружали их и кричали: ура! Войска просили дозволения одним ударом уничтожить бунт. Но государь император щадил безумцев и лишь при наступлении ночи наконец решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Таковы были происшествия вчерашнего дня. Они, без сомнения, горестны. Но всяк, кто размыслит, что мятежники, пробыв четыре часа на площади, не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных; и что из всех гвардейских полков лишь две роты могли быть обольщены пагубным примером буйства, – конечно, с благодарностью к Промыслу признает, что в сём случае много и утешительного; что оный есть не иное что, как минутное испытание непоколебимой верности войска и общей преданности русских к августейшему их законному монарху. Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками беспорядков. Помощью Неба, твёрдостью правительства они прекращены совершенно: ничто не нарушает спокойствия столицы»…
– Правда, Фома Фомич, всё тихо в городе? – спросил Голицын.
– Тихо-то тихо, да от этакой тихости не поздоровится, – покачал старичок головою сомнительно. – Ведь город точно вымер; только повозки с арестантами под конвоем жандармов скачут; всё новых да новых везут, и, кажется, конца этому не будет: одной половине рода человеческого придётся сторожить другую… А что, князь, пожалуй, сон-то в руку? – прошептал, наклонившись к уху его, с таинственным видом.
– Какой сон?
– А вот что опять из пушек палят. Южная армия, говорят, не присягнула, идёт на Москву и Петербург, дабы провозгласить конституцию, и генерал Ермолов тоже; а сила у него большая, все войска Кавказского корпуса, который предан ему неограниченно. Я ведь его превосходительство Алексея Петровича знаю: орёл! Из наших, суворовских. Чем чёрт не шутит, будет, говорят, династия Ермоловых вместо Романовых. Так вот, князь, какие дела: того и гляди, всё начнётся сызнова…
Голицын слушал, и опять загоралась в глазах его надежда. Но он потушил её.
– Если и начнётся, то не скоро, – проговорил, как будто про себя, тихо.
Но Фома Фомич услышал.
– Не скоро? Ну а всё-таки как?
– Да вам-то что? Ведь вы за царя?
– Мне, батюшка, ваше сиятельство, осьмой десяток идёт. По старинке живу, по старинке и думаю: коренной россиянин всех благ жизни и всей славы отчизны ожидает единственно от престола монаршего.
– Ну вот, вы за царя, а я за республику. Так вам со мной и знаться нечего!
– И-и, полно, князенька! Не так-то много на свете хороших людей, чтоб ими брезговать. Да и что мне с вами делать прикажете? Донести в полицию, что ли?.. Тьфу, неладный какой! Я-то за ним хожу, нянчусь, а он шпынять изволит! – хотел старичок рассердиться и не мог: детская улыбка, детские глазки тихой добротой продолжали светиться.
– Фома Фомич, пожалуйте к бабушке, – сказала Маринька, входя в комнату.
– А что? Что такое?
– Ничего, соскучилась по вас, сердится, что вы её забыли, ревнует к князю.
– Сию минуту! Сию минуту! – весь всполошился Фома Фомич, вскочил и выбежал, семеня проворно старыми ножками.
«А ведь он всё ещё любит её, как сорок лет назад», – подумал Голицын.
Сквозь старые деревья, опушённые инеем, заголубело, зазеленело, как бирюза поблёкшая или как детские глазки старичка влюблённого, зимнее небо; зимнее солнце заглянуло в окна. Прозрачные цветы мороза, как драгоценные камни, заискрились, и янтарный свет наполнил комнату. На жёлто-лимонном, выцветшем штофе заиграли зайчики, и на белом фризе позлатились голые тела амуров.
«Какая весёлая комната! – опять подумал Голицын. – Это от солнца… нет, от неё», – решил он, взглянув на Мариньку.
Переоделась: была уже не в утреннем капоте и чепчике, а в своём всегдашнем простеньком платьице, креповом, белом, с розовыми цветочками; умылась, причесалась, заплела косу корзиночкой; чёрные длинные локоны висели, качаясь, как лёгкие гроздья, вдоль щёк. И, несмотря на бессонную ночь, лицо было свежее – «свежее розы утренней», как Фома Фомич говаривал, – и спокойное, весёлое: от давешних слёз ни следа.
Прибирала комнату, сметала крылышком пыль, расставляла в порядке склянки с лекарствами; столовую посуду вынесла, чайную – вымыла; помешала кочергою в печке, чтобы головёшек не было.
Голицын следил за нею молча: все её движения, молодые, сильные, лёгкие, были стройны, как музыка, и казалось, всё, к чему ни прикасалась, даже самое будничное, вдруг становилось праздничным, таким же весёлым, как она сама.