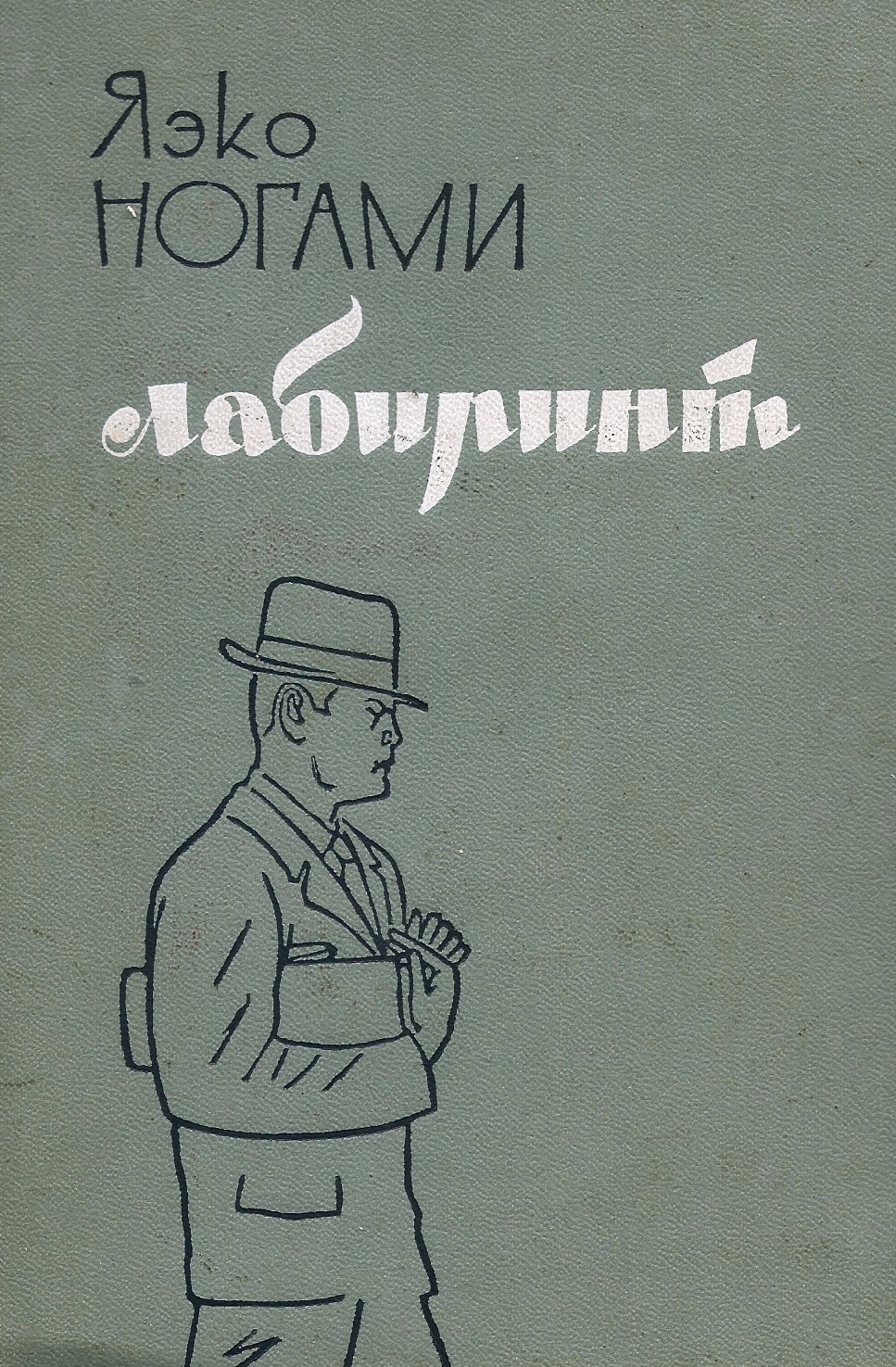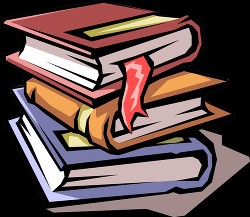который остается в ссылке один,— все это как-то связывалось в его представлении с ковчегом, с отъездом Мандзабуро и прощанием... Несмотря на то, что в пьесе был десяток ролей, Хирано он не позвал. Тихо, пел он один — мягким, мелодичным, печальным голосом, как и положено по ходу пьесы. Каждый день поутру он выбирал какой-нибудь отрывок для речитативного пения и пел также после ужина, готовясь к игре на домашней сцене, но репетиции эти да-вали ему сверх того возможность погружаться в искусство, без которого он не мог прожить дня даже сейчас. Ничто до сих пор не могло нарушить его занятий, лишь однажды их прервал страшный взрыв, который раздался вечером недели две назад в нижней части города и докатился сюда. Даже Томи не разрешалось входить в комнату Мунэмити во время его музыкальных упражнений.
Пение окончилось. Пока Мунэмити голосом, исполненным неизбывной грусти, как и полагалось по пьесе, повторял последние строфы, в соседней комнате ему готовили прекрасный душистый чай. Как только голос его замолк, Томи открыла раздвижную дверь.
— Кажется, ветер поднялся? —спросил он.
-— Не дай бог, если в такую ночь случится пожар.— Мунэмити никогда не говорил о войне — ни тогда, когда Япония одерживала одну победу за другой, ни тогда, когда начались поражения. Томи знала это и сама тоже старалась не упоминать о воздушных налетах. Но, говоря о пожаре, она, конечно, имела в виду не обыкновенный пожар.
Дул резкий, порывистый ветер. Роща, тянувшаяся от кладбища, то шумела, как бурный поток, то вдруг затихала. Шквалистый ветер лишь подчеркивал глубокую тишину, наступавшую после каждого порыва. Воздух был теплый и влажный. Среди разорванных облаков проглядывала поздняя луна.
Издалека донесся медленный, ленивый бой часов, висевших в конторе домоправителя. Пробило одиннадцать.
Взяв у Мунэмити пустую чашку, Томи поставила ее на поднос и привстала, чтобы принять его хакама, которое он обычно снимал, отправляясь в спальню. Однако Мунэмити даже не сделал попытки подняться и лишь уложил в футляр лежавший у его колен веер (такими веерами пользуются для отстукивания такта, когда поют без аккомпанемента); Томи сама сшила этот футляр из обрезков материи, оставшейся у нее после шитья костюмов.
— Мне нужно поговорить с тобой, Томи!
Лицо Мунэмити было освещено сбоку белым светом настольной лампы под матовым абажуром; благодаря плотным занавесям в коридоре не было надобности в затемнении. Он улыбался, голос его звучал ласково. Но что-то в его тоне заставило Тойи вздрогнуть. Ее черные, удли* ценные, как косточки хурмы, глаза с непривычной робостью и смущением смотрели на него снизу вверх.
— Что вы соблаговолите мне сказать?
И это спросила Томи, которая обычно безошибочно угадывала, что хочет сказать Мунэмити, еще до того, как он успевал раскрыть рот.
— Если ты хочешь, я могу и тебя отправить в Кикко или куда-нибудь еще.
Щеки Томи, даже лицо и шея залились краской. И верно, он разгадал ее тайные помыслы. Однако никогда они не оформлялись в ее сознании в определенную мысль, а просто какая-то смутная надежда, или вернее ожидание, гнездилась где-то в глубине ее души. Возможно, сейчас ей больше всего стало стыдно именно оттого, что он, оказывается, давным-давно уже понял ее тайные мысли, а она до сих пор об этом и не подозревала. Зато теперь она с отчаянной решимостью ухватилась за его слова.
— А разве я не могла бы поехать, сопровождая вас?
— Неужели ты думаешь, что я собираюсь трогаться с места?
— Нет, но мне хотелось знать, что вы об этом думаете?
— Ха-ха! Ты с чего это отвечаешь вопросом на вопрос?
Мунэмити произнес эти слова шутливым тоном, даже засмеялся, но тут же замолк, и лицо его приняло отсутствующее выражение. Нет, вовсе не потому, что его раздражали вопросы Томи. Он знал, что Томи с ее чуткостью и редкой проницательностью способна понять все, что бы он ни сказал. И потому-то она не могла быть для него таким собеседником, как Мандзабуро, сейчас оба они чувствовали одно и то же: если уж приходится говорить, то лучшей минуты не выбрать. Лицо его вновь потеплело, и он произнес просто и спокойно, как будто вел самый обыкновенный деловой разговор:
— У нас в народе говорят: рано или поздно приходит час расплаты. Наступил этот час и для меня. Взять хотя бы нынешнюю войну. Я знал, что она не кончится добром, безучастно смотрел как на неизбежную глупость, меня лично не касающуюся, на все, что творила военщина, и в частности люди вроде Хидэмити. А оказалось, это все равно что смотреть безучастно на пожар. А бежать теперь, когда дело приняло такой оборот,— это значит уподобиться зеваке на пожаре, который и пальцем не пошевелил, чтобы зачерпнуть ведро воды, а когда огонь добрался до его собственной крыши, начал с перепугу метаться и суетиться. Это даже не трусость, это гнусность. Неужели ты хочешь, Томи, чтобы я поступил вроде этого зеваки? А? К тому же в будущем году мне стукнет семьдесят. В сущности мне уже все равно, что и как будет. Но ты ведь не обязана погибнуть вместе со мной. Поэтому, как я уже говорил, ты можешь уехать в любое безопасное место.
Томи слушала, чуть нахмурившись, и не спускала с Мунэмити широко открытых глаз. Потом резче обозначились у нее припухлости под глазами, опустились веки, прикрывая черные блестящие миндалевидные глаза, и вдруг из них хлынули слезы. При последних словах Мунэмити мокрая от слез щека судорожно дернулась, как у человека, страдающего тиком. Обе руки, до того чинно лежавшие на коленях, закрыли лицо. Томи задыхалась, пытаясь сдержать рыдания, и с трудом проговорила:
— Куда же я поеду от вас! Пощадите меня.
Пусть она раньше не знала, сколь серьезными, глубокими и суровыми причинами объяснялся отказ Мунэмити покинуть Токио, но сейчас она чувствовала, что, даже подумав об эвакуации, она уже тем самым совершила нечто похожее на измену. Но только ли поэтому катились у нее сейчас по щекам слезы? При всем своем желании Томи не могла вспомнить такого случая, чтобы она когда-нибудь так плакала перед Мунэмити, как сегодня. Плакала Томи не только от сознания своей вины. В слезах ее излилось более сложное, более глубокое, неизвестно как и когда возникшее чувство необъяснимой печали, беспомощности, безотрадности, одиночества и тоски. Она была жена и в то же время не жена человека, который был ее мужем и вместе с тем не был им. И по-настоящему она даже не знала, любима