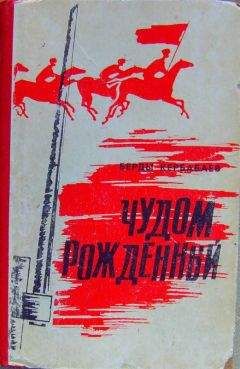Почему царская охранка стала следить за ним? Чего он не поделил с Джепбаром-Хоразом? Почему надел солдатские сапоги, перекинул через плечо винтовку? Стал смертным врагом своего старшего брата? И целился в бая из пистолета в Конгуре? Растратил свою молодую жизнь на бесчисленные битвы? Для себя? Нет, для себя хороша была арабская вязь пряных стихов Омар Хайяма, дестаны Махтум-Кули, да этот милый тенистый сад, да женщина, которую любишь, да звонкий голос ребенка…
Кайгысыз выронил карандаш из рук, вынул из блокнота фотографию. Удивленные и словно обиженные глаза девочки глядели на него. Надутые губки. Что думала она, когда ее привели фотографироваться? Наверно, говорила… У меня нет папы, я никогда его не видела, он никогда не держал меня на руках, я самая несчастная из всех несчастных… Атабаев обеими руками быстро приложил карточку ко лбу. Свои ранние годы он уже не так хорошо помнил, но что-то из детских лет хлынуло на него высокой теплой волной. Сейчас он был слабее этой дезочки.
Нет, не для себя растратил он свою молодую жизнь — в скитаниях, в битвах, в бессонной каторге совещаний, заседаний, в бумажном ворохе протоколов, тезисов, циркуляров.
Значит, для будущего, для всех, для народа… И в этом единственное оправдание.
В калитку постучали. Атабаев снял щеколду. Это воскресный гость Овезбаев, за его фигурой военной выправки — посыльный из обкома партии.
— Примите срочный пакет.
— Ого, в воскресенье. Да еще две сургучных печати… Ташкент?
Атабаев шел под деревьями, читая на ходу.
— Ну, теперь здравствуй, — сказал Овезбаев, когда они сели на айван.
— Здравствуй, — с веселым лицом ответил Атабаев. — Здравствуй и счастливо оставаться.
— Не вовремя пришел? — удивился Овезбаев,
— В самый раз.
— Чего же ты прощаешься?
— Должен ехать в Ташкент.
— Надолго?
— Насовсем.
— Ничего не понимаю!
Атабаев протянул другу надорванный конверт. Решением Исполбюро ЦК компартии Туркестана он назначался членом Исполбюро и комиссаром земельно-водного хозяйства Туркестанской республики. Овезбаев тяжело вздохнул:
— От души поздравляю — не тебя, а народ. Начало воды — родник. Теперь у всей воды в Средней Азии будет порядочный честный мираб… Ну, а мне нынче в Асхабаде нечего делать.
— Это еще почему?
— Ты доверял — и было легко работать. Нет, очень трудно, но радостно. Теперь прибавится подозрений…
— Если хочешь, вызову тебя в Ташкент, — сказал Кайгысыз и тут же пожалел о своих словах. — Нет, конечно, нельзя! Здесь ты нужнее.
— Это еще вопрос.
— Хоть ты и боевой офицер, Сейидмурад, а боевитости тебе не хватает.
— На это есть причина. Говорят: подбодри собаку — возьмет и волка.
— Разве Асхабад так далек от Ташкента, что и голоса не услышишь?..
— Ладно! Поговорим о тебе, — оборвал Овезбаев; он протер платком клеенчатый ободок под околышем своей бессменной фуражки и снова посадил ее красивым жестом на пышные седые волосы, лицо его повеселело. — Понимаешь ли ты, какое дело тебе доверили мудрые люди? Вся древняя Бактриана и Согда, все тысячелетние оазисы нашего края выросли на поливных землях. Какие оросительные каналы, какие плотины остались от прадедов! Владыки мира проливали кровь народов, но и орошали водой землю. То, что кровь лилась потоком, — пусть будет проклято и забыто. Но пусть будет дорога память о тех, кто своими стараниями приводил воду с гор на жаждущие поля. Знаешь, товарищ комиссар, пройдут века, и на твою могилу также будут стекаться правоверные… паломники.
— Ну, ну, хватит! — крикнул Атабаев, и они оба рассмеялись над многословной тирадой. — Смогу ли я? Ведь ни черта не понимаю.
— Ты хоть это понимаешь, друг. А Певзнер?
— Что — Певзнер? — переспросил Атабаев.
Он знал, что Певзнер не очень хорошо разбирается в деле животноводства, но только не было другого человека, знающего, а Певзнер — все-таки коммунист и книги умеет читать не кверху ногами.
Овезбаев улыбнулся своей злой мысли прежде чем ее высказал:
— Вот ввяжешься ты в битву за воду, и сразу твою голову баи и Джунаид-хан оценят… Как ты думаешь — в какую цену?
— Думаю, что не дороже твоей штабс-капитанской фуражки.
— В двадцать пять тысяч рублей! Не дешевле! А сколько, по-твоему, дадут они за голову Певзнера?
— Ты, вижу, снова с ним поругался?
— А как же! Вчера он решил посоветоваться со мной. Я ему говорю: «Если хотите, чтобы животноводство в области развивалось, постарайтесь ему пока что не мешать». — «А потом?» — спрашивает и хлопает белыми ресницами. — «И потом, говорю, не вмешиваться». — «А после того?» — «Не трогать и после того!» Он, как видно, не понял меня, я ведь ему правду сказал. А он, что называется, полез в бутылку: «Значит, говорит, по вашему мнению, в советское время животноводство можно вести как при феодально-патриархальном строе?» Пугает словами, а в дело вникнуть не хочет. Этот Певзнер даже не догадывается, что если прижмет скотоводов, они от него сбегут, куда глаза глядят. Помнишь поговорку? «Тронешь огонь — погаснет, тронешь соседа — уйдет». Может быть этот Певзнер честный, проверенный и книжку читает не кверху ногами… Но только бы подальше его от животноводства. Не веришь?
— Нет, ты правду говоришь. Но только откуда взять людей? Нет людей. А одной рукой в ладоши не похлопаешь…
В редких кустиках черкеза и саксаула, благодатные хлебные поля, сады в самой поре своего тяжелого плодоношения. Иногда колеса гулко отстукивали по мостам над рекой или каналом. И снова, — кишлаки, ослики, арыки.
Тысячи мыслей роились в голове Атабаева, пока он ехал в Ташкент с новым высоким назначением. Он вспоминал большие полноводные реки — и родной Мургаб, и Теджен, и Аму-Дарью, и Сыр-Дарью, и Зеравшан, и Чирчик. И тысячи горных речек, — при выходе на равнины они распадаются веером на бесчисленное множество арыков, чтобы дать влагу каждому клочку земли, — даже самому отдаленному. Мутные воды, — они несут ил и не только увлажняют пашню, но и удобряют ее. Десятки тысяч верст арыков — труд многих, многих поколений. Он представлял себе, сколько земли надо перебросить с лопаты на лопату, сколько собрать камыша и хвороста, соломы, кольев и камня, чтобы поправить то, что разрушено в эти годы. Низовья Мургаба были ему понятнее, чем 84 канала Зеравшана и 45 каналов Чирчика, — и когда он обдумывал, с чего начинать, он живо представлял себя в лодке в зарослях Мургаба или выходящим от берегов Теджена на бедные поля своего края.
В окне — пустыня. Верблюд щиплет кустики. Когда верблюд хочет дотянуться, он вытягивает шею… Надо людей поднять. Он видел пустыню перед глазами за окном, и он видел вставшие в его мечте пшеничные поля, хлопковые плантации, шелковичные сады, клевер и ячмень— до горизонта, бахчу и огороды. Вода в арыках. Черная грядка, влажная от полива. Потный глиняный кувшин, из которого, запрокинув головку, жадно пьет воду толстопузый голоногий малыш.
Откуда же взять людей? Как заменить старых мирабов, байских слуг — новыми? Как поправить, плотины? Он вспоминал Коушутбентскую дамбу, — сберегающую воду для всего Мервского оазиса. И плотину Карры-бент в Теджене. Где инженеры-ирригаторы? Как их найти в батальонах Красной Армии? Как без них сможет он изучить местные водные системы и упорядочить водопользование из арыков, а потом создать новые справедливые законы? Муллы и ханы будут и тут мешать, а басмачи взрывают плотины и скачут вдоль уходящей воды с криком восторга и мести. «Вода общая, — говорят муллы, — святой ислам нас не делил на классы, все мусульмане равны». И темный аульный человек им верит — верит, даже когда ему мираб не дает горсть воды, чтобы омочить сухие губы… Как поднять лес кетменей над головами людей, — как повести голодных дехкан на ремонт каналов, — а ведь вода это хлеб, это жизнь. Говорят, что для очистки арыков от ила в одном лишь Хивинском ханстве нужно 700 000 рабочих дней.
«Не грусти… Будет победа. Не грусти… Твоя победа…» — снова слышался ему железный перестук колес.
В Ташкенте для уныния не было досуга. Он был из тех людей, кто — семь раз отмерив, — режут один раз, и все-таки, узнав поближе о делах в Хорезме, где начались распри между узбеками и туркменами, из-за капли воды стали возникать такие зловещие названия, как «Кровавый водораздел» или «Кровавый колодец», он несколько пал духом.
Какой безграничный опыт, какие творческие усилия, непрестанный труд нужны для нового дела! От его бездарности или нерадивости миллионы людей могут превратиться в нищих. Пока не поздно лучше отказаться… А не похоже ли это будет на дезертирство? Может его следовало бы назвать не Кайгысыз-сердаром-оглы, а Кайгылы-Елюрек-оглы? Сердце-то у него трусоватое, с ветерком?.. Владимир Ильич перевернул всю великую Российскую империю, а этот туркмен из аула Мене тоже осмеливается величать себя большевиком. Оправдать доверие партии — единственная обязанность. Может не справится? А не справится — кто же будет его держать?..