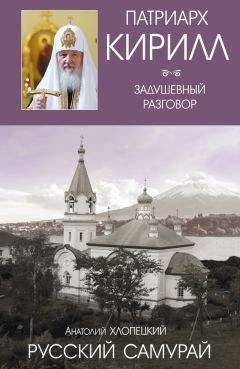– Наверное, необыкновенные какие камни? – заинтересовался Вася.
– Да нет, – ответили ему. – Просто пятнадцать необработанных камней разбросаны по белому песку. А сделал это много веков назад один монах по имени Соами. Да ты сходи – сам все увидишь.
– Да на что глядеть-то? – заупрямился Вася. – Разыгрываете меня, поди? Сами же говорите, что камни обыкновенные.
– Камни-то обыкновенные, а в саду том скрыт великий секрет, – наконец объяснили ему. – Мы тебе сказали, что камней пятнадцать?
– Ну? И что?
– А то, что все пятнадцать вместе ты не увидишь, как ни становись. Один камень остается невидимым.
– Так может, дурит народ тот монах? Может, их и вовсе четырнадцать?
– Да нет, в том-то и дело, что если ты перейдешь на другое место, невидимым окажется другой камень. А тот, который прятался, теперь виден.
– А потрогать-то их можно? – поинтересовался недоверчивый Вася.
– Э, нет. Смотреть на камни можно с галереи, которая идет по одному краю сада. А с трех остальных сторон – монастырские стены.
И Вася отправился к саду Реандзи. Наверное, он оказался там одним из самых дотошных посетителей: стараясь никого не потеснить или, упаси Боже, не толкнуть, он так и эдак прилаживался смотреть – даже на корточки садился и очень жалел, что нельзя взобраться на перила галереи. Уж сверху-то, наверное, всяко видно все пятнадцать камней сразу.
Загадка сада камней долго не давала ему покоя, и однажды он не утерпел – спросил у сэнсэя Сато, что же имел в виду монах Соами, что он хотел сказать своими камнями. Тот ответил: «Видишь ли, мальчик, мы бываем уверены, что видим то, что есть, до конца. И в голову иной раз не придет, что есть такое еще, чего мы не видим. А оно всегда есть». И сэнсэй даже палец вверх поднял.
Ну что ж. И такое объяснение годилось. Но каким-то уж очень простым оно было. И Вася, набравшись смелости, спросил о саде камней отца Арсения – все же он тоже был монахом, может тот Соами ему понятнее?
– Мне кажется, – задумчиво сказал отец Арсений, – тот буддийский монах имел в виду не сами камни, а людей, которые на них смотрят. Ты помысли: сколько вас было на галерее – и у каждого был свой невидимый камень, каждый видел другие четырнадцать камней, чем его соседи. Может, хотел сказать монах, что ни одну точку зрения нельзя назвать единственно правильной?
Есть у японцев такая конституция, написанная еще в седьмом веке, говорят. А в конституции записаны такие слова: «У каждого человека есть сердце. А у каждого сердца есть свои наклонности. Он считает это хорошим, я – дурным. Я считаю это хорошим, он – дурным. Но я вовсе не обязательно мудрец, а он вовсе не обязательно глупец. Оба мы только обыкновенные люди».
– А как же тогда распознать, где правда, где лжа? – горячо возразил Вася.
– Так ведь это их, японская, древняя конституция гласит, – нахмурившись ответил отец Арсений, пожалев про себя, что смутил незрелый ум отрока чужой мудростью. – А у нас мера одна: Божья Истина, Заповеди Господни. Вот их и слушай сердцем – не ошибешься.
Была еще кроме садов камней необыкновенной красоты императорская вилла Кацура Рикю, но туда не то что Васе или другим семинаристам – и остальным жителям Киото хода не было. Говорили, что императрица с придворными дамами до сих пор часто приезжает на виллу – скучает по ее красоте. Ходило много рассказов о парке при вилле, о трех павильонах и чайном домике на сваях, о фонарях – «Три сияния», у которых три окошка: в виде солнца, полумесяца и звезды; «Три угла», где все треугольное – тренога в основании и главная часть; «Три камня» – его широкой крышей можно любоваться в снежные зимы, там нарастает пушистая снежная шапка.
Занимала и простая здешняя жизнь, особенно ремесленная. Недаром Киото славился мастерами по изготовлению шелковых тканей, одежды, кулинарами. Однажды проходя со сверстниками возле речки Камо, Вася увидел, что все ее берега устланы длинными разноцветными полотнищами. «К празднику, что ли, какому готовятся?» – подивился он.
Ему объяснили, что это ткани для будущих кимоно. Их соткали вручную, а потом кисточкой нанесли рисунок, обвели рисовой пастой по контуру, и мастерицы тонкими кисточками раскрасили каждый завиток орнамента, каждый лепесток цветка натуральными красками из трав и минералов. Потом еще раз покрыли специальной пастой – и в парилку. Ну а после этого шелка полощут в Камо и сушат тут же на берегу.
Рассказала обо всем Васе лохматая черноглазая японочка, которая болталась тут же около шелков с рисовой метелкой на длинной бамбуковой палке – то ли смахивала случайно налетевший сор, то ли просто караулила. Вася выслушал ее с интересом и уже сложил было ладони, чтобы вежливо поблагодарить за рассказ, когда его сильно дернули за полу и, отведя в сторонку, зашипели: «Ты что? Это же “эта” – подметальщица! Это она тебя должна благодарить, что ты ее удостоил вопросом». А в глазах говорившего мальчишки явственно читалось: «Эх, одно слово – иноземец. Как дети малые – порядков не знаете».
Подметальщица и в самом деле кланялась, старательно сгибаясь пополам. Вася только рукой махнул: всю прогулку испортили. Знал, что долго будет помниться испуг в живых и веселых до того девчоночьих глазах. А про шелка подумалось: много этаким способом не выработаешь. А раз мало вырабатывают – значит, дорого. Должно, одним богатым по карману.
Когда весна разгулялась вовсю и в Киото стали готовиться любоваться цветущей сакурой – японской вишней, в семинарию без предупреждения приехал владыка Николай. Как всегда без сопровождающих, с одним возницей, в легком открытом экипаже. Видно было, что сдал он за эти зимние месяцы, но держался все так же прямо и так же громок был голос, весело ответивший семинаристам: «Здорово, молодцы!»
Держась в толпе семинаристов, Вася слышал, как преосвященный на ходу возражал начальнику семинарии, пенявшему владыке, что он утруждает себя и отказывается от отдыха с дороги: «На покой миссионеру, когда у него есть хоть капля силы служить своему делу? Это для меня представляется столь несообразным, что я и в мечтах никогда не пытался примеривать покойный халат. Хочется умереть на той борозде, где Промысел Божий судил и пахать и сеять».
Как обычно в день приезда владыки Николая, были и служба в соборе, и проповедь его там, и длительная беседа с руководством миссии в Киото. Как всегда, шли своим чередом и занятия семинаристов. Разве только к ночи, против обыкновения, никак не могли угомониться взбудораженные событиями «молодцы». И тогда Вася сквозь гомон сверстников услышал в коридоре знакомые энергичные шаги. Услышали их, как видно, и остальные – все голоса смолкли. В спальню вступил преосвященный Николай. Он тихо, будто не ведая, что отроки не спят, прошел между койками, где-то, склонившись, поправил край сползшего одеяла, подоткнул подушку, так же тихо вышел. И будто осталась в спальне принесенная им тишина – больше никто не шелохнулся, не вымолвил ни слова.
А затем пришел сон.
На другой день после утренней молитвы, которую начал первыми фразами сам преосвященный, занятия для Васи начались со спортивного зала. Он любил эти тренировки в утренние часы, но в этот раз его мысли были очень далеко от до-дзе: он думал о том, как бы все-таки поговорить с владыкой Николаем до его отъезда.
Сэнсэй Сато, как всегда, каким-то шестым чувством угадывал состояние своего питомца и потому был в этот день особенно безжалостным. Когда, еще в борцовском кимоно, вытирая рукавом пот, Вася выскочил наконец из до-дзе, он почти уткнулся разгоряченным лбом в пахнущую ладаном епитрахиль владыки Николая.
– А, молодец из Хакодате! – неторопливо проговорил преосвященный, слегка отстранив его и как бы любуясь взъерошенным Васиным видом. – Ну как твои успехи у мастера Сато? – И тут же прервал себя: – Ну, беги, беги – остынь, переоденься, да после обеда зайди ко мне. Потолкуем.
Не чуя под собой ног, как во сне, летел Вася в «молодцовскую». Не помнил потом, чем кормила в тот день семинарская кухня: ел, не разбирая, то ли рыба, то ли рис, то ли бобы ихние – соей называются. Весь послеобеденный отдых лежал с закрытыми глазами, твердил про себя, что надо не забыть сказать владыке, о чем спросить.
И вот настал час – отпущенный с послеобеденных занятий, как никогда умытый и причесанный, стоит он у дверей комнаты преосвященного: робеет постучать.
Когда потом припоминал разговор (а припоминал не раз и не два – помнил всю жизнь), неважным оказалось, и как вошел, и что отвечал на первые вопросы владыки. Да, видимо, и спрашивал преосвященный больше для того, чтобы успокоить отрока, помочь ему справиться со смущением.
Он перестал смущаться, когда зашел разговор о занятиях в до-дзе. Подробно рассказал, чему выучился у сэнсэя Сато, как умеет теперь одолеть в схватке двоих, а то и троих. Владыка Николай слушал с затаенной усмешкой в глазах: знал, что молодец не бахвалится – до того преосвященный успел перемолвиться с мастером Сато. Японец вначале тоже робел, все пытался кланяться, но когда речь зашла о Васе-сан, оживился и стал горячо доказывать, что такого способного ученика у него еще не было и что делать из него проповедника – загубить большой талант.