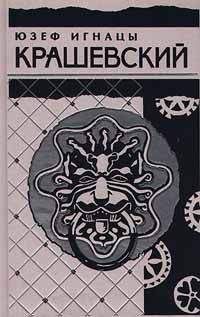— Мне! — загремел громовым голосом Евстафий так, что проходивший в эту минуту немец отшатнулся в сторону и выбранил его порядком. — Мне отречься от моего происхождения! Я солгу! Я вотрусь туда, где не мое место! Присвою себе то, что не мое, тогда как я горжусь моим происхождением. Я за одно только воспоминание о трудолюбивых поселянах, которым я обязан жизнью, не взял бы вашего графского достоинства!
— Но зачем же ты жалуешься? — спросил Альфред.
— Потому что страдаю.
— Отчего страдаешь?
— Потому что я пария между вами. Ни воспитание, ни талант (если б я даже имел его), ничто в свете не заменит для вас происхождения. Взгляни на мое положение между вами, и ты поймешь, что меня ожидает. Возвратиться же к своим, как бы я хотел, мне невозможно. Понятия, чувства, все отделяет нас друг от друга, а предрассудок, или как ты там себе хочешь назови, отдаляет меня от вас, и остаюсь я один, отверженный от всех…
— Мог бы не возвращаться на родину.
— О, это только легко выговорить, милый Альфред, — сказал, прослезясь, Евстафий. — Вам, панам, всюду открыт и мил свет, меня же привлекает моя земля, наша деревня, старая, обвалившаяся хата, сельское кладбище, все! Но и кроме того, я обязан возвратиться на родину: этого желает твой дядя, а он мой благодетель!
Альфред думал и молчал, встав с лавки, они отправились далее, следуя медленно по липовой аллее. Под старыми дубами зверинца они снова остановились, взглянув друг на друга.
— Знаешь ли, Евстафий, что старые эти дубы напоминают мне мои леса над Смыровой, мой край, скоро там будем.
— И это тебя радует?
— Радует ли? Не знаю, как сказать. Сердце бьется, но почему, не могу дать себе отчета. А ты?
— Радуюсь, грущу и боюсь, все разом.
— Боишься, чего?
— Неужели тебе надобно это объяснять?
Альфред пожал ему руку с участием.
— Но я буду с тобой.
— О, еще бы и ты оставил меня! Если бы не грустная моя привязанность к моему краю, не знаю, возвратился ли бы я, не знаю, принудил ли бы я себя к такой смелости. Мое положение…
— Ты вечно возвращаешься к этому грустному вопросу.
— Должен думать об этом.
— Почему же?
— Потому что я родился не барином.
— Напрасно ты так думаешь заранее.
— Нет, милый Альфред, в нашем краю это уже общее явление: шляхтич только считается человеком, остальное же не имеет этого названия. Не шляхтич старается корчить его, вкрасться в дворянское достоинство, чтобы получить герб и позаимствовать хотя каплю рыцарской крови.
— Сделай же и ты так.
— Ради Бога, не повторяй этого. Я горжусь моим происхождением. Был, есть и буду крестьянином, сын крестьянина и ничего более. Рассуди же теперь, что может произойти от неравенства моего положения и происхождения.
— Что же может быть? — сказал Альфред, сгибая с нетерпением палку в руке. — Я ничего не предвижу, не делаю напрасных предположений. Воспитание дает тебе вход всюду.
— Где встретит меня унижение?
— Не понимаю, почему?
— Пусть унизят меня при входе, лишь бы учтив был бы прием, но я уже нигде не встречу братства, равенства, связи. Холодная учтивость, обидная и льстивая.
— Опять!
Альфред пожал плечами и спросил:
— Что я — аристократ или нет?
— Ты?
— Да, посмотри на меня хорошенько и ответь мне искренно.
— По многому да, по многому нет.
— Вот сам же ты говоришь, что по многому я могу смело назваться аристократом, — усмехаясь, прибавил Альфред. — И все-таки, несмотря на это, я остаюсь твоим приятелем и братом.
— О, ты исключение в этом случае!
— Евстафий, напрасно ты предаешься опасным мечтам, подожди сперва доказательств, а заранее себя не тревожь. Вижу, что не могу тебя успокоить, а хуже только дразню. Я вовсе не исключение, а совершенно принадлежу весь обществу, порядочно постигаю вещи и мог бы уверенно тебе их объяснить.
— Дай-то Бог. Я выше всего, милый Альфред, ценю твою приязнь и знаю, что это для меня первый и, конечно, последний союз такого рода. Постараюсь твердо стать на своем месте, перенести все и в себе самом найти все. Назначение мое: помогать, утешать, лечить братий моих, прочее же предоставляю судьбе и Богу.
Проговорив это, он встал растроганный и разгоряченный, видно было, что он не высказал всего еще, что у него было на душе. Альфред не говорил с ним более, наступал вечер, и они направились к городу, к своей квартире.
По дороге присоединились к ним старые университетские их товарищи без студенческих атрибутов, изрядно одетые, веселые, упоенные жизнью, как все те, которые стоят еще на пороге жизни с необманутыми надеждами. Разговор начался общий, беспечный и веселый. Всякий высказал свои предположения о будущем, нетерпеливые планы, жаркие грезы. Один Евстафий шел с поникшей головой, по чувству деликатности никто не вызывал его присоединиться к этому шумному хору. Альфред отвечал умеренно, умно и учтиво, шутя над окружающими, но не проговаривался ни о чем, что сам думал.
Альфред был прекрасного рода и наследник хорошего имения. Но у нас чаще чем где-нибудь случается, что богатые баре излишними расходами доводят себя до недостатка и нищеты. Гордые славным именем своих предков, они не умеют в упадке своем примириться со своим положением и умно вынести последствия нищеты. Без привычки к труду, бережливости и без уменья найтись в затруднительных обстоятельствах, они становятся самыми несчастными людьми, осужденными на тягостную ложь. Жизнь их делается жалкой комедией, которая часто оканчивается трагедией. Желая казаться богатыми, счастливыми, покойными, они корчат бар, проживают последнее и внутренне страшно терзаются ожиданием завтрашнего дня. Таково было положение и родителей Альфреда. Отец его, получив расстроенное состояние и обманувшись в расчетах в женитьбе, никогда не имел довольно смелости, чтобы уверить себя в своей бедности и поэтому оставил сыну только имя и совершенно уже разоренное имение, которым едва ли можно было успокоить должников.
Отец Альфреда и граф, о котором было упомянуто в начале этой повести, были родные братья. Умирающий отец Альфреда поручил сына брату, а у смертного одра данное слово обещало Альфреду прекрасную будущность. Дядя Альфреда имел дочь, и легко можно понять, что братья взаимно обещали друг другу.
Дядя принял в свое распоряжение имение, воспитал Альфреда с полным старанием, какое только мог оказать. Это воспитание ограничивалось приличным обучением французскому языку, музыке, танцам, потом отправлением в Берлинский университет, куда, впрочем, Альфред отправился скорее по собственному желанию, чем по распоряжению дяди. Дядя принял эту поездку за вояж, в котором племянник мог из Берлина легко объехать Швейцарию, Францию и Англию. А так как вояж считался окончательным во всем усовершенствованием для людей высшего круга и был необходимостью, то дядя говорил всем, что Альфред вояжирует, но не признавался, что он учится в университете. К счастью, Альфред, поняв заблаговременно свое положение, чувствовал, что ему нужна наука и труд в будущем, а потому горячо принялся за работу, приучал себя заранее к умеренности и лишениям, потихоньку учился одному не совсем опрятному ремеслу и вместе с Евстафием ходил слушать лекции медицины, за что и получил степень доктора. Несмотря на все это, Альфред наружно все-таки оставался барином в полном смысле этого слова: одежда его, обхождение, наклонности были совершенно барские, он любил удовольствия чисто аристократические, был охотник до лошадей, до охоты, до роскоши и окружал себя всем изысканным. В нем заключалось два существа, готовых идти по разным путям, судя по тому, который судьба предназначит. Он готов был идти по следам предков, а вместе с тем и следовать по тернистому пути людей, добивающихся всего трудом.
Подготовленный таким образом ко всему, Альфред по выходе из университета, вступил в свет, смело заглядывая в будущее. Евстафий жил сердцем, чувством и был открыт, молодой паныч, напротив, был скрытен, холодно на все смотрел и был рассудителен в каждом деле. Они действовали с равным мужеством, но совершенно различно. Первый бросался на все, как лев, не соображая препятствий, с которыми должен был бороться, другой же рассчитывал, думал, боролся и отходил прочь. Сердце Евстафия было на ладони, по выражению французов, а Альфреда — в голове. Одного узнать можно было в полчаса, другого же трудно было изучить в полгода.
Наука имеет сильное влияние на человека — Альфред был тому примером. Новые теории, новые понятия о свете, почерпнутые из лекций, совершенно переродили его. Детские впечатления исчезли, подавленные новыми понятиями, глубоко врезавшимися в душу. Следствием их была потеря веры в дворянство, как главное условие, по понятию его предков, для названия человека, — в дворянство, которое себе все извиняло, пользуясь исключительной привилегией на все.