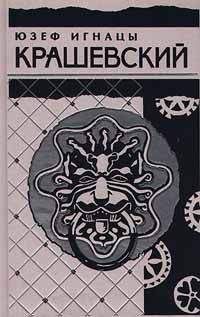— Это ангел! — отвечала француженка.
— Горячий ангелочек. Но тем лучше, будет с характером.
Мизя возвратилась с торжественным видом и с письмом в руке, которое уже, идя, пробегала глазами с большим вниманием.
— Не прощу тебе никогда, папа, никогда, что ты не сказал мне сейчас же о письме, не дал мне его сейчас же! Письмо такое интересное, такое любопытное…
— Но ведь ты получила его?
Она погрозила отцу.
— Увидишь, папа, что я тебе сделаю!
— Например?
— Все твои планы разрушу, не захочу идти за Альфреда и…
Тут она нагнулась к уху графа, шепча:
— Выйду замуж, как пани Д…
Отец сделал вид, как будто смеется, но вспыхнул:
— Делай, душка, как хочешь. Ты знаешь, как я люблю тебя и ни в чем не могу тебе противиться! Напрасно ты уверяешь меня, что у меня есть какие-то планы, я никогда их не имел.
— Превосходно. Так ты отрекаешься?
— Ничего не знаю.
— Ты не думал об Альфреде для меня?
— Нет, — с неудовольствием сказал граф.
— Я припомню эти слова.
Во время этого разговора отец был явно чем-то встревожен. Мизя с любопытством дочитывала письмо Альфреда.
— Если он такой холодный педант и церемонный учтивец, каким я представляю его себе по письму, — вскричала Мизя, свернув и бросая письмо, — то из твоих предположений, папа, ничего не выйдет! — Потом она снова схватила письмо и с новым вниманием пробежала его.
— И ничего определенного не пишет мне о моем protégé!
— О ком? — угрюмо спросил граф, хотя знал хорошо.
— Как, о ком! А о дорожном товарище!
— О товарище! — сказал отец. — Я не знаю ни о каком товарище, кроме слуг, — продолжил граф с принуждением.
— Ты считаешь в числе их и пана Евстафия?
— И Остатку, — добавил граф.
— Папа, милый папа, не делай мне неприятности.
— Не понимаю тебя.
— У тебя много старых предрассудков.
Граф презрительно пожал плечами.
— Без шуток, — сказала Мизя, пробегая письмо. — Альфред ничего о нем не пишет.
— Что же он мог написать?
— А, как я любопытна, как любопытна! Будет по крайней мере одно существо необыкновенное в нашем обществе, новое, оригинальное.
— В нашем обществе! — подхватил граф с гневом.
Мизя, как бы не замечая этого, докончила:
— Что-то эксцентрическое, необычайное: сирота, мальчик, воспитанный и поставленный иначе, чем обыкновенно.
— О, ради Бога, довольно, я не могу долее выдержать! — воскликнул отец. — Что тут удивительного! Что тут эксцентричного! Сирота, мужик, из которого я сделаю лекаря в моих поместьях.
— Альфред, пишет, что он доктор.
— Это все равно, — хладнокровно добавил граф, — доктор, цирюльник, — дам несколько сот злотых и баста! О чем тут так много говорить.
Мизя посмотрела на отца.
— Ты это искренно говоришь? Но не решай ничего, пока его не увидишь. Может быть, он и не похож на цирюльника, и в таком случае…
— Будет, чем я ему прикажу быть, — сказал граф.
— Увидим. Что же до меня касается, папа, то я чрезвычайно желала бы найти в нем что-нибудь оригинальное, необыкновенное. Мы все, милый папа, не исключая ни меня, ни тебя, ни тех, которые нас окружают, обыкновенные, уже известные люди, мне скучно, что наше общество так однообразно, холодно.
Граф усмехнулся, взглянув на молчавшую пани Дерош.
— Поблагодаримте за комплимент, — сказал он.
— О, это только сущая правда, — поспешно добавила Мизя.
— Так ты находишь нас скучными?
— Это мне не мешает любить вас, но прежде всего — и это правда, папа, ваше общество походит на гладкие садовые дорожки — очень удобные, хорошие, но однообразием своим чрезвычайно скучные.
— Ты хотела бы что-нибудь больше?
— Зеленую мураву, твердый камень, узенькую тропинку, что-нибудь новое.
— Восторженная голова! — сказал граф.
Мизя нагнулась к отцу и сказала умильно:
— Что же делать! Не могу быть иначе. Люби меня такой, какова я есть.
— Большая задача!
— Легко разрешаемая, ты меня слишком нежил, оттого я и стала так самовольна, так шаловлива — si vouz voulez.
— C'est le mot, — сказал граф.
— Да, но какая я теперь, такая всегда буду, не правда ли, пани?
— Боюсь этого, — тихо отозвалась пани Дерош,
— Почему же боишься?
Француженка замолчала и задумалась.
— Совершенный сфинкс, моя милая Дерош, вся в загадках!
— Желаю, чтобы это для тебя и осталось загадкой.
— Надеюсь, что это не сбудется.
Проговорив эти слова, Мизя улыбнулась, показав два ряда белых зубов, и приказала камердинеру убирать завтрак. Граф углубился в газеты, которые, по-видимому, сильно его занимали. Мизя встала и растворила стеклянные двери, ведущие на балкон.
— Еще не жарко, — отозвалась она, вдыхая в себя воздух, — madame Des Roches, voulez vous faire un tour au jardin?[1]
— Volontiers.
Графу подали в это время трубку с турецким табаком. Обе дамы вышли свободно, но строгий наблюдатель физиономий сейчас же увидал бы, как изменилось выражение лица Михалины. Едва только она отошла от отца и осталась с глазу на глаз с пани Дерош, то сделалась гораздо серьезнее (не теряя, однако же, своей миловидности) и, обратясь к своей компаньонке, сказала:
— Неужели нельзя уже обратить моего отца, милая Софья! Каждый день все то же самое и каждый день напрасно! Скажи мне, всякое ли убеждение так глубоко вкореняется и разрастается в человеке, что его потом ничем уже нельзя вырвать?
— Ты употребила превосходное выражение, — отвечала француженка, — убеждение можно уподобить растению, которое посевается и вкореняется и которое уничтожить невозможно. Но не будем этому удивляться: молодость, долгая жизнь, общество людей одних с ним понятий, сделали отца таким, каков он есть.
— Обратить его должно!
— Невозможно.
— Грустно уверять себя в этом! Такой благородный, такой добрый человек, такое золотое сердце!
— Может ли быть иначе! Он родился, воспитался, состарился в своем убеждении. А все, что он видит, что окружает его, утверждает его в этом убеждении.
— Знаешь, милая моя Дерош, я ужасно боюсь приезда Альфреда, желаю его и боюсь. Что-то говорит мне, что он не сойдется мыслями с папа. Из этого произойдут недоразумения, неудовольствия, а тут вдобавок и тот еще, кому я протежирую.
— Как тот, которому ты протежируешь! Разве ты его знаешь?
— Да, я очень хорошо его помню, моя добрая мама мне его поручила! Пускай они скорее приедут, по крайней мере, у нас жизни будет больше, будет о чем говорить, думать, хлопотать, хоть бы даже изредка и ссориться. Я умираю с тоски.
— С нами, Мизя?
— Хоть с вами, наша деревня смертельна скучна, моя Софья, мы не умеем жить в деревне.
— Может, это и правда.
— А наше деревенское общество?
— Правда, что скучно.
— И все правда, моя дорогая, что говорю я, вы ведь только скрываете, а на самом деле сознаете все это. Я убеждена, что папа, что ты, что все так же великолепно скучают, как и я. Папа в особенности, де-Пнуд давно уже выводит его из терпения, но только он не хочет в этом сознаться, живет он только своими газетами, которые для меня наискучнейшее развлечение. Vous n'кtes pas légitimiste,[2] m'me Des Roches?
В это время показался граф.
Мизя обернулась, но не сконфузилась.
— А, папа, ты подслушиваешь нас? Это нехорошо!
Старик между тем держал письмо в руке, и лицо его выражало сильное беспокойство.
— Что это за письмо? — спросила Мизя.
— Из Скалы.
— Альфред приехал?
— Приехал. Без толку, прямо к себе, вместо того, чтобы приехать прямо ко мне. Сегодня вечером будет здесь.
— А, это прекрасно! Чудесно! Я невыразимо рада! Дай же мне расцеловать тебя, папа.
— Постой, Мизя, дай сказать слово и не целуй меня заранее, потому что то, что я имею тебе сказать, не стоит верно поцелуя.
— А что же такое?
Граф принял серьезный и торжественный вид.
— Ma chиre, прошу тебя об одной вещи и требую, si vous, voulez.
— Требую! Папа, что за слово?
— Не отступлю от него! — сказал серьезно граф.
Мизя посмотрела ему в глаза, скрыла улыбку и, нахмурясь, нетерпеливо отвечала:
— Слушаю.
— Прежде мать твоя, потом ты взяли на себя покровительствовать сироте, теперь я хочу один им распоряжаться. Предупреждаю тебя еще, милая Мизя, что хочу быть господином у себя, прошу, чтобы ты ни в какие мои распоряжения не вмешивалась. Мои действия должны быть приказом для окружающих, и по ним уже они должны знать, как быть и поступать им.
— Слушаю, но не понимаю тебя, папа.
— А мне кажется, что это очень легко.
— Легко понять, но трудно растолковать себе, для чего, милый папа, ты хочешь лишить меня приятной возможности услужить ближнему. Буду послушна, не буду ни во что вмешиваться.
Сказав это, Мизя повернулась и скорыми шагами пошла по аллее. Граф остался один, смущенный, с письмом в руках. Каждый раз, когда дочь расставалась с ним таким образом, его всегда мучило дурное расположение ее духа. Тревожась этим, он всегда кончал тем, что уступал ей. Но теперь он хотел употребить всю свою власть и в то же время предвидел, что останется, как обыкновенно, побежденным. С другой стороны, он чувствовал какое-то отвращение, какую-то ненависть к этому сироте. Данное ему первоначально воспитание страшно бесило графа, сто раз хотел он поставить этого ребенка в первобытное состояние, противился всегда выезду Евстафия с Альфредом за границу. Но в то время еще жива была его жена, которая убедила его согласиться на эту поездку. Теперь, когда сирота должен был возвратиться, граф испытывал какое-то беспокойство и готовился к этому возвращению, как к страшной борьбе. Всякий день он повторял себе: "Из этого добра не будет, я отогрел змею и в этом убежден, нет примера, чтобы из мужика вышло что-нибудь хорошее: выйдет завистливое, ненавистное, подлое создание". Вести об успехах Евстафия в науке сердили графа. "Тем хуже, — говорил он сам себе, — тем опаснее: он должен иметь злое сердце, а при умной голове это далеко поведет".