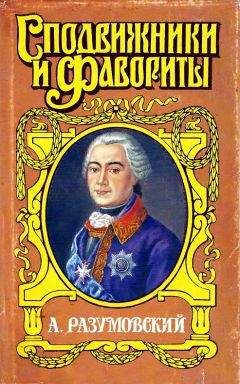Феофан Прокопович игриво погрозил холеным праведным перстом, на котором вспыхнул огонь рубина. Прав был спутник: мало он походил на попа. Достаточно пожил при царских дворах, начиная с воителя Петра и кончая засидевшейся на коврах, от жиру расплывшейся Анной. Знал ученейший Феофан: всему свое время.
Время молитве — и время мирской утехе. Так что к хутору, где решили заночевать, ехали зело навеселе.
Хутор Лемешки — только по названию был хутором. Село, если по российским меркам. На большом, накатанном шляху, недалече от знаменитого Батурина, гетманской столицы. Не беда, что царь Петр своей невоздержанной дланью отменил гетманство — память о том жила. Да был жив и последний гетман, славным именем Апостол, не такой еще и старый, можно сказать, в казацкой силе. Село многое повидало, хоть и называлось хутором. Много гостей ехало снегом ли, знойной ли пылью от Киева на Москву и обратно. Так что маленький, скромный обозик и не приметили.
Как рубили справа от шляха подсолнух, так и продолжали рубить, — будто вылезший на пашенные земли березняк где-нибудь на Смоленщине. Как гнусавил что-то водовоз на левых косогорах, так и продолжал свое. Громадную телегу о четырех сплошных дубовых колесах проволокли встречь ленивые быки. Куда им, глядя на вечер?.. Ага, к подсолнечному валежнику. Тучи ползут от Батурина, и самый ленивый не хочет оставлять под дождем свое добро. Еще телега, еще двухколесная арба, пришедшая сюда явно с татарских времен. Народец хохлацкий себе на уме. При виде господских карет никто и капелюха соломенного не сдернул. Явно не Смоленщина или там Рязанщина.
Полковник Вишневский сквозь переднее окошечко ткнул концом сброшенной было сабли:
— Ну ты, догоняй!
Догонять, значит, переднюю карету. Остановились, чтобы посоветоваться.
— Как, ваше преосвященство? В селе или опять под дубками?
— Сподобнее в селе. Народ в здешней округе разбойный, — тоном знатока отметил архиепископ. — У меня два ружья, да у тебя…
— …три пистоля! — распахнул он от жары и без того расстегнутый кафтан. — Да сабелька немалая, — погремел ножнами. — Да хлопчуки ваши…
— То-то и оно, что малые хлопчуки. Нет уж, герой служивый, в селе надежнее.
Хотели трогаться на зов соломенных крыш, но архиепископ замахал рукой из окошка:
— Чу, чу!..
Стадо спускалось уже с легких, окатых нагорий к хутору. И то, что у водовоза казалось гнусавым, безобразным отзвуком, здесь предстало звучной, басистой песней… да нет, пожалуй, псалмом?.. Полковник Вишневский в раскатах молодецкого распева слов не признал, а более сведущий архиепископ аж просиял:
— Шестой псалом! В такой глуши, откуда?.. Не верю, но внимаю. Чу!
— «Утомлен я воздыханиями моими… каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою… Иссохло от печали око мое, обветшало…»
— «Обветшало»! — расхохотался полковник Вишневский. — Да ему прямой путь — в гренадеры.
Стадо спустилось уже со склона на шлях, запрудило дорогу. Волей-неволей — стой. Тем более пастух и не думал подгонять. Рослый и статный, он лениво тащил по пыли ременный бич и хоть, косясь на кареты, больше не пел, но и шагу не прибавлял.
— Хор-рош! — с завистью сдвинул полковник Вишневский на затылок выгоревшую треуголку.
— Как говорят здесь, гарный хлопчина, — согласился и архиепископ.
Парень ли, хлопец ли — в полном соку, о двадцати с чем-то годах. Истинно, по гренадерски высок и статен, хоть и в холщовых портах, но уже при густых смоляных усах и весьма приметной бородке. Под стать чуприне и черная смушковая шапка — единственное украшение его одежды. По такой-то жаре! Ведь был он, ко всему прочему, еще и бос.
— Погоняй, хлопче, — без всякого гнева поторопил архиепископ.
— Именем государыни… очисть дорогу! — уже порядочно зарядившийся венгерским, разрядился криком, да и пистолетным грохотом, полковник Вишневский.
Стадо вскачь понеслось к селу, не отстал и пастух. Но путникам пришлось обождать. Пылищу подняли такую, что ни одному ливню не угасить. Да и гроза прошла стороной, где-то уже за селом с треском, похлеще пистолетного, опала.
— Спать пора, ваше преосвященство, — с очередной чаркой высунулся в оконце Вишневский.
— Пустят ли нас после такого стрельбища? — попенял архиепископ.
— Куда денутся! Не то я им!.. — следующим пистолетом погрозил полковник.
Архиепископ покачал головой, повелел своим:
— Трогай. Авось найдем, где приклонить головы…
Остановились не то чтобы возле лучшей хаты, а, пожалуй, возле лучшей хозяйки. Больно уж ласково, от всеобщего испуга, она пропела им навстречу:
— А-а, гостейки ридные! Не трэба стрелить… Пше прашу до хаты. Дозвольте ручку, пан отче?
Ага, выстрел услышали. Восприяли до ласки!
Все здесь, в приграничье, с польского на хохлацкий перемешалось. Уж архиепископ Феофан это знал, да и полковник понаслушался. Давно ль под российскую руку подпали? Был Богдан Хмель, была какая-то Рада, да хохол здешний ни к чему не радел. То к москалям, то к панам, а то и к татарам прислонялся — кто хлеще стрелял. Жизнь пограничная такова. Архиепископ Феофан руку благословляющую без всякой обиды протянул. Одно вопросил:
— Переночевать дозволите, добрая жинка? Не обидим, не бойтесь. Мне хлопцев попутных накормить потребно. Можно?
Та заискивающе закивала головой:
— Отче добродею! Можливо, можливо.
— Вот и добре. Как будем звать тебя, дочь моя?
— А Розумиха, як жа. Розум мой… у-у, пьянчуга!.. — погрозила вылезшему с задворья растрепанному мужику, в холщовых портах, но в казацкой шапке. — Прочь с очей моих! Все еще казаком себя считает. У-у, злыдень!..
Грозен, усат был вид этого мужика-казака, но перед женой ли, перед пистолетом ли расстегнувшего кафтан полковника спасовал, опять на зады убрался. Так что поужинали без помех, под вишнями, чем Бог послал в лице расторопной хозяйки. И мясо нашлось, и рыба с Десны-реки, не говоря уж о всяком овоще. Видно, не все же пропил казак-простак.
Хлопцы на попонах в саду улеглись, а архиепископ Феофан, прислушавшись, предложил:
— Малые пусть поспят, а нам, Федор Степанович, самое время грехи замолить, — кивнул он на заметно полегчавший бочонок, поставленный как барабан, торчком, тут же в саду.
Время было еще первоосеннее, теплое. В хате, как ни упрашивала хозяйка, ни снедать, ни ночевать не решились. Хоть и чисто, а без блох не обойдешься. Кареты приспособлены для ночлега, чего же лучше.
— Спевают, а? — на голоса шел архиепископ Феофан; бывшие при нем монахи еле поспевали.
Полковник Вишневский тоже не решился пренебречь Божьим храмом, хоть и тянуло на сон.
А уж хозяйка, Розумиха-то, вприпрыжку догнала. Когда успела и переодеться? Плахта ярко-красная, с прозеленью, кофта под цвет весеннего луга, платок тюрбаном повязан, концами в роспуск по плечам, сапожки с крепким, молодым пристуком — ну, истинно молодица! Ей и самой дивно было, оправдываться начала:
— А-а, Розуми, ды без розуму! Часто ли гостейки шановные бывают?..
Выходило, что не очень-то часто. В хате казак-гуляка, да двое дочек несмышленых, да кроха сынку, да хоть и постарше который — велик ли кормилец? Пасет скотинку хуторскую, и то ладно. Есть еще первенец, уже женатый, отрезанный ломоть. На кого бедной жинке опереться?.. Хватит, отказаковали! Старый дурень служил где-то у гетмана Апостола — куда той гетманек подевался, туда и ум казацкий. Горилка ум заменила, лень непросыпная поле вместо сохи уминает. Одно горазд еще: деток в ночи духмяной чертоломить, право дело. Да остатние детки не приживаются в пьяной хате. Хоть ты, гостейка служивый, хоть ты, отче праведный, посуди: как им жить-то? С нынешними детками не знаешь, что делать. Не котята же, от пьяного батьки в подол не спрячешь. Старшенького от дури подколесной чуть не порубал — лихо его возьми, так и пустил топор что в татарина! В голову, в головенку-то родимую… Добро, что скользнуло вбочь. Добро, что под чубом закорилось и волосьем прикрылось, не видно. На людях сынку бывает, а как же! Просится в Киев либо куда, да старый дурень не отпускает. Ну, да ведь тоже в батьку! Сбежит и без спросу.
А пока так-то Розумиха плакалась, хоть и со смешком, уже и к церкви подошли.
Старая церковь, еще из дуба рубленная — сейчас-то все дубье по Десне извели. Паперть покосилась, но плахи-ступени еще держались: когда входили, услужливо покрякивали.
Полковник Вишневский, не воспринимая спертую духоту, в дверях остановился, а архиепископ Феофан прошел дальше. Кто его, в таком дорожном одеянии, мог признать? Ничем от сопровождавших его монахов не отличался. Разве что дородностью да бородой седовласой. Монахи-то неспроста были взяты молодые — в дороге всякое могло случиться. Они неназойливо, но крепко распирали локтями толпу, очищая для архиепископа дорогу. Ворчали по сторонам, качали чубами, но ничего, терпели. Всяк локтем вперед пробивается, хоть в жизни, хоть и в церкви.