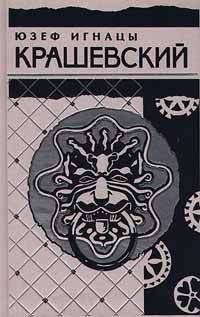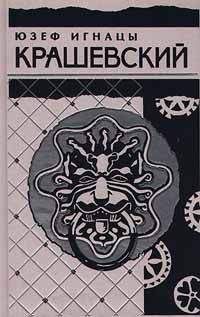— Хорошо? Гм! Конечно, теперь должно быть хорошо, потому что я отжил свое, и мне нужны только ложка борща и теплый угол; но случалось все, а все же и злую годину как-то легче перетерпеть на родном пепелище.
— А вы здешние? — спросил судорабочий.
— Здесь родился, коротал век и лягу в могилу, — отвечал старичок несколько грустно. — Грибу нечего думать о танцах.
— А любопытная должна быть история?
— Чья?
— Да ваша.
— Моя? Разве же это история? Беда родилась, беда и пропала.
— Вечером решительно нечего делать, в корчму идти боюсь; если бы вы, дядя, рассказали про свое житье-бытье. Одному сидеть на плоту скучно, а то и время прошло бы и я от вас чему-нибудь научился бы.
Старик добродушно засмеялся.
— А что же я расскажу тебе? Судьба моя не любопытна: таких много на свете. Под старость остался я один-одинешенек, и нет в свете живой души, которая назвалась бы родною. Но ведь старикам только и надо, чтоб их слушали, зацепи только нашего брата — и сам не рад будешь.
— О, говорите только, я люблю слушать.
— Сколько себя помню, — начал старик, — то здесь на берегу Горыни бегал я по целым дням с мальчиками, правда, в изорванной рубашке и без шапки, но то было счастливое время.
— А родители?
— Я их не помню: мне было лет шесть, когда оба умерли от какой-то горячки, а как они были выходцы из Волыни, то у меня не оказалось в деревне никакого родственника. Словно сквозь сон представляется, что после похорон приказчик отвел меня с кладбища в соседнюю избу, где старуха накормила меня, два дня питавшегося лишь сухим хлебом. На другой день заставили меня пасти гусей, потом перешел я к свиньям, а потом, как заметили, что я уже понимаю дело, поручили общественное стадо. О, ничего не было приятней этой пастушьей жизни! Правда, что мы выгоняли коров до рассвета, за то же, как сладко спалось где-нибудь под кустом, когда бывало нашалишься в лугу или по лесу. С рогатым скотом не много заботы: эти животные понятливые; как только привыкнет в выгону, его и палкой не сгонишь с места; если заберется не туда, куда следует, раз, два, следует отогнать, оно само не пойдет больше. Пастуху только надо посматривать, издалека покрикивать и заниматься, чем ему угодно.
— Э, что это за удовольствие, — прервал парень, — когда не с кем перемолвить слова…
— Нас ведь собиралось несколько мальчишек. А как разложим, бывало, огонь где-нибудь в лугах или в лесу, да нанесем картофеля, грибов или поджарим сала, то-то роскошь! А как начнем бывало петь, — просто сердце радовалось, когда песня наша далеко разносилась по лесу… Да что и толковать! Когда, однажды, наш пан, прежний помещик, царство ему небесное, встретил меня в лесу, идучи на охоту, заговорил со мною, и видно я полюбился ему, потому что тотчас же велел взять меня во двор казачком [8], — видит Бог, как мне не хотелось покидать пастушью жизнь свою…
— А, так вы служили во дворе?
— Всю жизнь, сынок, всю жизнь…
— А что выслужили себе на старость? Суму?
— Погоди, все узнаешь. Я не жалуюсь, хоть мне, может быть, и не так посчастливилось, как другим; но что же из того, если бы я был теперь и богаче? Не ел бы я с большим вкусом, не спал бы спокойнее. Прежде выслушай, а потом увидишь, чего я дослужился.
На другой день привели меня во двор насильно, обмыли, обули, одели… Хоть слезы навертывались на глаза, а надо было исполнять, что приказывали. На третий или четвертый день я уже втянулся, потому что тяжелой работы не было; меня прежде приучали в буфете, пока допустили в комнаты. Пан наш был еще не старый человек, красивый мужчина, а что главнее — доброго сердца. С первого уже раза ты чувствовал, что будешь любить и уважать его, потому что по внешности и по обращению видно было, что он пан на всю губу [9], а хоть бы оделся он в сермягу, ты и ночью узнал бы, что Господь Бог создал его властвовать. Но его власть никому не была тяжелой; разгневавшись даже, он ни с кем не говорил сурово, молчал только, а молчание это было самым тяжелым наказанием для служителей. Каков поп, таков и приход: и старый казак, которому меня поручили, и прочая челядь были добрые люди, я скоро с ними освоился. Конечно, мной помыкали, но только отвечали одни ноги на побегушках, и я даже не помню, чтобы кто ударил меня или выбранил. Казак, бывало, говорит: это сиротка, не следует обижать бедняжку… И вот позабылась пастушеская жизнь… и когда бывало, через несколько недель потом встречаю старого пастуха Грынду и прежних товарищей, то улыбнусь им только издали, показывая на свои шаровары с красной выпушкой… но в лес уже мне не хотелось. Служба была не тяжела: пан велел мне быть только в комнатах, и меня к тому приучали. Возле него немного заботы: по большей части он сам себе прислуживал, редко когда бывало потребует, и всегда обращается отечески. С старым казаком жили они словно братья, только казак иногда ворчал на него.
— Должно быть, выбрался добрый пан какой-то.
— О, на свете уж нет больше таких людей, — сказал старик, отирая слезы, — это был для меня отец и брат "месте. Жил он там, где, видишь, торчит обнаженная труба старого дома, но в его время все высматривало иначе. У него был такой порядок в каждом уголке, что на широком дворе не увидел бы и соломинки… А теперь — хлева да развалины. Из дому выезжал он редко; к нему тоже приезжали не часто, но случался иногда гость и его радушно принимали. Мы постоянно заняты были работой, да и пан не любил сидеть сложа руки: занимался хозяйством, любил охоту, лошадей; иногда ловил рыбу, возился около пчельника, работал в садике, и время летело так быстро, что не успеешь, бывало, оглянуться, а смотришь уже и новый год на дворе. Пан был холост и одинок, как палец. Говорили, что он приехал откуда-то издалека и купил это имение, но весь народ так привык к нему, словно он был наследственный владелец, и вся деревня любила его, как родного отца.
Да и нетрудно было привязаться к нему, потому что он был добр и жалостлив, охотно помогал бедному, и никто не уходил от него без помощи. За полгода я совершенно привык к нему и занял место старого казака, который нередко жаловался на плохое здоровье. Старику хотелось и отдохнуть, притом же получил он от пана хату с усадьбой, и вот, подучив меня, он перебрался в себе на новоселье.
Но что значит привычка: через три недели он начал заглядывать во двор, а потом, бывало, подопрет колом хату и с утра до вечера сидит с нами на крыльце, покуривая трубочку. Меня и самого не выгнать бы уже из двора дубиной, потому что пан выдался такой, каких нет уже на свете.
Довольно тебе сказать, хоть это и глупость, до чего доходило в нем добродушие: он не съест, бывало, вкусного плода или хорошего кушанья, чтобы не оставить нам отведать. Через несколько лет, когда мы познакомились ближе, он сделался мне отцом, и я, подобно каждому из нас, готов был пожертвовать за него жизнью. Я был к нему ближе всех дворовых: мы ходили с ним вместе на охоту — любимое его занятие, ездили ловить рыбу и копались в садике. Как теперь помню, встанем, бывало, до зари, а старый Бекас, пудель, догадавшись, в чем дело, начинает визжать и подпрыгивать; и вот торбы на плечи, и отправимся в кусты или в болото, да целый день и проходим, подкрепившись рюмкой водки и куском сыру с хлебом. Я сначала удивлялся, зачем такой хороший человек не любит водить знакомство с людьми, но, узнав его ближе, заметил, что хотя он и крепился и порой казался веселым, однако, в жизни его, должно быть, случилось нечто, о чем он никому не говорил, но что отравляло его спокойствие. Бывало, все весел, а вдруг задумается, вздохнет, слезы покатятся по лицу, словно горох… но едва заметил эти слезы, тотчас за ружье и в лес, или займется каким делом, и не заметишь, что недавно плакал.
Такого-то судьба послала мне пана, и мне жилось так хорошо, что я и не подумал о будущем; я уже был в летах, и он сам не раз приставал ко мне, не хочу ли я жениться и предлагал хату с усадьбой. Но как же расстаться с таким человеком! Притом же, мы до того отвыкли во дворе от женщин, словно их не существовало на свете; нам казалось, что всю жизнь можно обойтись без них, а старый казак утверждал, что женщина только насорит в хате. Впрочем старик, несмотря на это, все-таки женился. Пан не только не заговаривал ни с одной женщиной, но даже не смотрел на них, да и мы, хоть и пошалим, бывало, в деревне, но никому женитьба и в голову не приходила. А между тем пан опустился, да и мы тоже; иные умерли, другие, в том числе и я, постепенно начали стареть, в особенности я, потому что не знаю отчего, но в тридцать лет уж голова поседела. Но жизнь во дворе не изменилась. Пан хоть и бодро держался и ходил на охоту, однако, уже не с прежним жаром; более занимался в садике, видишь ли, начали слабеть ноги. Я думаю, он повредил их в болоте, потому что ходил много и очень шибко.
Когда он начал сдаваться и хворал время от времени, — делался еще мрачнее; работать было уже не под силу, и вот он принялся за книги; читает, бывало, стонет, а по ночам, вздыхая, иногда произносил имя Бога… Иной рЪз, бывало, лежа в другой комнате, прошибут тебя слезы. Напрасно мы старались забавлять его разными способами; я начал приручать ему птичек; это развлекло его не много, но со дня на день становилось хуже, и он сделался ко всему равнодушен.