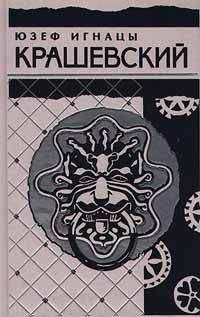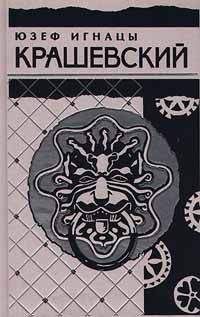Ознакомительная версия.
О, сударик мой, и что за жизнь там, какая свобода в лесах и в полях! Какие песни и какой серебристый смех звучат там, где не побывали крестоносцы! А там, где они прошли, прошла с ними смерть.
Правда, там нет ни таких одежд, ни утвари, ни каменных домов. Там все нараспашку, двери хат стоят настежь, земля — для всех. Бог всюду царит свободно: живет, где хочет… так же человек… Вся земля вдоль и поперек не размежевана, а лес бесхозяйный. А кунигас сидит на высоком городище только для того, чтобы видеть, не подходят ли издалека враги; а государствует он, чтобы защищать от них народ. За то дают ему отсыпное и подымное».
Парень задумался, а потом прибавил:
— На Литве нет людей, как здесь, которым грех взглянуть на женщину или пошутить с девкой. Наши вейдалоты и вейдалотки гуляют на свободе; жениться и выходить замуж им не вольно, но смеяться и распевать могут всласть. Ходят с венками в волосах, приветно улыбаются друг другу и всему миру. Мы сидим здесь взаперти, как скот в хлеву; на Вышгород не впустят даже старой бабы, чтобы рыцари не вспомнили о девках… Ой, Литва! — вздохнул он. — Кунигас мой, мир иной и лучше здешнего… Только для нас он на запоре!
Юрий сидел молча; оба вздыхали.
— А помнишь ты Литву? — спросил больной.
— Я-то? Да лучше вашего, — отвечал парень. — Меня взяли из лесу от убитых отца да матери не махоньким; я уже и по земле ходил и на деревья лазил, как кот. Я бы убежал… да только, когда меня спустили с привязи, было уж слишком поздно. Вначале конюх их зацепил меня петлей и потащил с собой, окровавленного и избитого, а я выл, как волк, от боли и со страху. Потом нас всех, изловленных, позапирали в клети; а мы клети подожгли, чтобы сбежать… Не помогло… переловили… Стали тогда бить и мучить, чтобы заставить забыть родной язык и песни и научиться болтать по-ихнему… Только я глубоко запрятал все, что принес в душе из лесу… и этот клад им удастся вырвать только с жизнью. Они не отучили меня любить свое, но научили лгать…
При этих словах он усмехнулся, дико и коварно.
— Спросите их обо мне! Скажут, что лучше и послушнее меня нет на свете парня! А я что? Я кланяюсь им в землю, целую подолы их плащей, восхваляю их, благодарю, смеюсь… пусть думают, что я невесть как счастлив. А что у меня в душе — то мое!
И полунараспев, полуворча, прибавил:
— Кто знает? Кто там знает? Кунигасы еще не перевелись; народу — тьма. Может быть, придет черед и на Литву, встрепенутся и ее сыны…
Юрий не ответил. В голове его шумело и ходило колесом: «Кунигас! Кунигас!»
Лампада стала гаснуть и шипеть. Парень, встревоженный, вскочил, боясь опоздать. Он подошел к задумавшемуся больному и низко склонился перед ним.
— Кунигас мой, — шептал он, стараясь поймать руку Юрия, — не убивайтесь. Не мужское дело хныкать. Мужчине пристойно изливать свой гнев, женщине свою тоску. Она поет о ней и облегчает душу, когда душа исполнена страдания. Мы же должны носить его в себе, как яд. Жить надо… почем знать? Да, почем знать? — повторил он. — Придет наш час, и засияет день над детьми Литвы!
Юрий взглянул на парня и слегка хлопнул его по плечу.
— Иди! — сказал он. — Пора! Госпиталит никогда не ложится и часто бродит по ночам. Что если он тебя застанет? Возвращайся восвояси; а завтра, если удастся улизнуть, приди опять рассказывать мне о Литве. Ты первый открыл мне, кто я такой и разбудил во мне уснувшие воспоминания. Сон ли это? Или память о былом? Или дьявольское искушение?
— Дьявольское? — недоверчиво засмеялся парень. — У нас на Литве нет дьяволов, а только меньшие боги, слуги наибольшего Бога, то добрые, то злые, как Он прикажет.
— Молчи, безумный! — воскликнул Юрий. — Не путай божественное с человеческим! Что ты можешь знать!
И он опасливо, украдкой, осенил грудь крестным знамением.
Но этого движения Рымос не заметил. Он поспешно выскользнул через полуоткрытую дверь и, как мышь, тихо прошмыгнул в общую лазаретную палату, на свою пустую койку.
Мариенбургский (Мальборский) замок — хотя позднее его достраивали, увеличивали и кончали — уже в то время имел, в общих чертах, тот величественный вид, о котором многие из нас могли судить по его развалинам раньше, чем безвкусица, внесенная неумелой реставрацией, вдохнула призрачную жизнь в омертвелый труп.
На самом гребне горы стоял Вышгород (Hochburg), первая по времени постройка, в которой помещался костел, подземное кладбище (пещеры, катакомбы) и капитул ордена. Ниже, отделенный глубоким рвом, находился средний замок, где протекала повседневная жизнь крестоносцев. Еще ниже, к лугам и речке Ногат, тянулись нижнезамковые поселения с хозяйственными постройками и жилищами для челяди, оруженосцев и прислуги.
В те времена ходила слава, что все три ограды, ставшие впоследствии столицею монашеского ордена, отказавшегося от борьбы с неверными на востоке, были соединены между собою на случай опасности подземными ходами, потайными лестницами, секрет которых был известен только высшему начальству ордена.
Для ежедневных совещаний, в которых участвовали великий магистр ордена, великий комтур, маршал и казначей, а по временам и некоторые из старших рыцарей, служил средний замок. Собирались в так называемом рыцарском зале, своды которого опирались на единственный гранитный столб.
В этом-то зале на другой день после описанных событий сошлось все начальство ордена. Члены совещания восседали на каменных скамьях вокруг огня, пылавшего на огромном очаге.
Виднелись только белые плащи да рыцарские заостренные черты лиц с угрюмым выражением, наморщенными бровями, щеками в глубоких складках, с широкими грудными клетками, как бы созданными для доспехов и к доспехам привыкшими.
Почти братское сходство лиц находило объяснение в общности происхождения, — ибо в те времена в орден принимались только немцы, — в дворянской крови и образе жизни, налагавшем на всех одну печать. И, тем не менее, почти каждое из мужественных лиц, дышавших глубокою нравственною силой и царственным величием, принимало резко индивидуальный характер, как только дело касалось жизненных интересов ордена.
Великий магистр стоял ближе к огню. Он был человек строгой и суровой внешности, но с неприятным выражением лица. Глаза его беспокойно бегали, он кусал губы, морщил лоб и, хотя находился среди своих присных и ближайших, все же, по-видимому, посматривал на них с недоверием.
Неразлучный спутник великого магистра ордена, недавно приставленный к нему компан (товарищ), ни на минуту не оставлял магистра с тех пор, как фон Орселен был убит мстительным Эндорфом. Теперь он стоял поодаль, у самой двери, которая соединяла маленькое зальце с собственными покоями магистра.
Компан был самый младший из присутствовавших: юноша с быстрым взглядом и красивой внешностью. Он умышленно держался в стороне, как бы не обращая внимания на начальство, в совещаниях которого не смел принимать участия.
Стоя на страже, он не мог отойти от своего поста.
Звали его граф фон Хеннеберг.
Магистр Людер, кроме нервного лица и великого высокомерия, опиравшегося на княжеское происхождение, ничем особенным не отличался.
Лица великого комтура, маршала и казначея, сановников, входивших в состав тайного совета, были гораздо выразительней и заставляли думать, что, хотя исполнительная власть была в руках магистра, власть направляющая целиком принадлежала этим трем советникам, спокойным, исполненным самоуверенности и проникнутым сознанием великой миссии, выпавшей на их долю.
Сверх великого магистра и остальных, только что упомянутых сановников, присутствовал также рыцарь Бернард, с которым мы познакомились вчера. Одет он был так же как в часовне; так же старался, по-видимому, стушеваться и подчеркнуть, что не имеет официального положения и значения, и сидел в темном уголке, на лавке, притворяясь немым и равнодушным зрителем.
На лице магистра Людера явно отражались, кроме беспокойства, утомление и скука: как бы протест против насильственного привлечения на заседание, тогда как он нуждался в отдыхе.
Разговор велся вполголоса, как бы в виде предисловия к общему совещанию.
Комтур несколько раз, собираясь приступить к делу, взглядывал на компана Хеннеберга. Видя, что многозначительные взгляды остаются втуне, он подошел поближе, пошептался, и компан медленно исчез за дверью.
Магистр Людер нетерпеливо толкнул ногой полено, скатившееся с очага, осмотрелся и пробормотал:
— Говорите… начинайте… слушаю!..
— Лучше всего, если тайну, имеющую великое значение для ордена, доложит и объяснит вам брат Бернард, — сказал великий комтур, взглянув на рыцаря.
Магистр, насупившись, бросил грозный взгляд на сидевшего в углу орденского брата. По выражению лица легко было заключить, что он не любил Бернарда.
Ознакомительная версия.