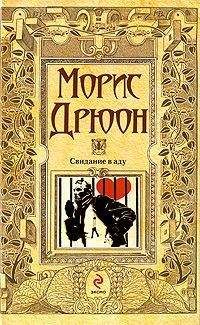Ознакомительная версия.
4
Тем временем Инесс Сандоваль увлекла Жан-Ноэля Шудлера в переднюю, к вольере. Звуки оркестра и шум голосов звучали здесь приглушенно, смягченные парчовой портьерой. Попугаи устало хлопали веками и жались друг к другу.
В своей зеленой маске Инесс Сандоваль походила на огромную хищную птицу.
– Почему ты пришел так поздно, милый? – спросила она.
– Из-за бабушки. Это конец. Мы даже боялись, что совсем не сможем прийти, – ответил Жан-Ноэль. – Надеюсь, этой ночью она не умрет.
– Ах, мой бедный мальчик, как это ужасно… Ты очень любишь свою бабушку?
– Нет… – вырвалось у юноши.
И оба рассмеялись, покачивая своими картонными масками.
– Я впервые вижу тебя во фраке, мой прелестный юный олень, – сказала Инесс Сандоваль.
Она взяла его за плечи и легонько повернула, чтобы осмотреть со всех сторон.
«Неужели заметно, что фрак сшит не на меня?» – с тревогой думал Жан-Ноэль. У него не было денег, чтобы заказать себе новый фрак у портного. И он пришел на бал во фраке, перешитом из фрака его бывшего отчима Габриэля Де Вооса, который обнаружили почти новым и не тронутым молью в одном из шкафов.
Жан-Ноэль был в том возрасте, когда люди еще не умеют смеяться над денежными затруднениями и уверенность человека в себе находится в прямой зависимости от его внешности и костюма. Юноша чувствовал себя в этом перешитом фраке так неловко, будто взял его напрокат.
«Ну, после смерти бабушки все это немного переменится», – подумал он.
– Ты поистине красив, необыкновенно красив, мой ангел, – прошептала Инесс.
Она приподняла маску и, слегка припадая на ногу, остановилась перед зеркалом, чтобы взглянуть, не стерся ли грим на ее лице.
У нее были большие черные глаза – в них, как в горных озерах, порою пробегали фиолетовые огоньки, густые, очень темные волосы, которые она укладывала так, чтобы они слегка ниспадали на шею, смуглая матовая кожа, ровные мелкие зубы. Но все это уже как-то потускнело.
Таинственные жизненные соки, придающие коже шелковистость и мягкость, а волосам блеск и пышность, уже начинали, видимо, у нее иссякать; на лбу обозначились три тонкие морщинки; эмаль зубов еще не потемнела, но уже потеряла свой ослепительный блеск, а взгляд то горел лихорадочным огнем, то поражал безжизненной вялостью: вспышки молний внезапно уступали место выражению равнодушия и усталости.
Инесс вступила в ту пору жизни, когда физическая привлекательность человека постепенно угасает. Правда, поэтессе было уже сильно за сорок, и многие женщины полагали, что жаловаться ей не на что.
Жан-Ноэлю, который ни на кого больше не смотрел, никого и ничего не замечал, Инесс казалась божеством. Ему только что исполнился двадцать один год. Она была для него не первым любовным приключением, а первой настоящей любовью. Некий ореол, видимый лишь ему одному, точно нимб, окружал в его глазах голову Инесс.
Он знал о ней лишь то, что она сама пожелала ему открыть, – историю ее замужеств и вдовства – и поэтому считал ее женщиной, которая много страдала (это, кстати, было правдой), и она сумела внушить ему, что его любовь послана ей в утешение за прошлые муки.
Жан-Ноэль с радостью терял целые дни ради двух часов, которые она уделяла ему (или требовала, чтобы он уделял ей), – беспорядочная жизнь поэтессы не оставляла им больше времени!
Он знал, что в свое время из-за нее покончил с собой какой-то молодой писатель. А ведь еще она перенесла и смерть двух мужей, и потерю ребенка.
Но Жан-Ноэль знал далеко не все – не знал он, в частности, что за Инесс Сандоваль укрепилась репутация женщины, приносящей несчастье.
Он взял ее маленькую, сухую и смуглую кисть и крепко сжал в своих белых руках.
– Я люблю тебя, Инесс, – чуть слышно произнес он.
– Да, радость моя, ты должен любить меня, любить бесконечно. Я так нуждаюсь в этом, чтобы жить… – ответила она. – А теперь пойдем… Неудобно надолго оставлять гостей одних.
Наступил час, когда утомленные гости начали снимать маски. Одни поднимали их на лоб, наподобие древних шлемов, другие обмахивались ими, третьи забавлялись тем, что обменивались масками и гляделись в зеркала. Те, кто заехал «только на минутку», собирались покинуть бал.
Инесс Сандоваль увидела высокого человека лет шестидесяти, с худой и гибкой фигурой, в клетчатых брюках, белых носках и узких лакированных туфлях; в руке он со смущенным видом держал голову легендарного единорога.
– Pim, you are not going, I hope![2] – воскликнула Инесс. И, указав рукой на Жан-Ноэля, она прибавила: – I’d like to introduce le baron Schoudler… Lord Peemrose… Jean-Noel Schoudler is the great-son of a famous French poet…[3] Но почему вдруг я говорю по английски? – прибавила она, смеясь. – Ведь лорд Пимроуз превосходно владеет французским языком.
– Да, я немного изъясняюсь по-французски, – в свою очередь улыбаясь, проговорил почти без всякого акцента лорд Пимроуз.
Жан-Ноэль машинально снял маску – он сделал это из учтивости, как снимают при знакомстве шляпу.
Его лицо сияло необычной белизной, зато синие глаза сверкали темным огнем; волосы, блестящие, как свежая солома, вились мелкими кольцами вокруг ушей; щеки, подпертые высоким крахмальным воротничком, еще сохраняли детскую припухлость.
При виде этого светлого лица, поражавшего своей юношеской красотой, выцветшие глаза лорда Пимроуза, прикрытые морщинистыми веками, на миг заметались, словно напуганные ослепительным светом; казалось, англичанин ищет вокруг что-нибудь менее яркое, на чем его взгляд мог бы отдохнуть.
В эту минуту двое пожилых мужчин, беседовавших на балконе в нескольких шагах от них, разом повернули головы. То были академик Эмиль Лартуа и драматург Эдуард Вильнер. Оба тоже сняли маски; впрочем, внешность Вильнера от этого мало изменилась.
– Всякий раз, когда наша дорогая Инесс произносит «барон Шудлер», – проговорил академик Лартуа, – мне кажется, что передо мной сейчас возникнет наш старый друг Ноэль, гигант с черными глазами и козлиной бородкой. А вместо него появляется этот белокурый юноша – сущий Ариэль.
Он криво усмехнулся и прикусил губу. Вильнер и Лартуа, правда в разное время, были любовниками поэтессы. Они входили в число тех, кого в обществе именовали «старыми фондовыми ценностями» салона Инесс Сандоваль.
– Она меняет стиль, наша милая Инесс, – продолжал Лартуа. – Заклинательница змей становится воспитательницей птенцов.
– Это наша смена, дорогой друг, – заговорил драматург низким голосом, наклонив свою голову Минотавра. – Мальчишки учатся у наших любовниц тому, чему те сами научились в наших постелях. Именно так и передается любовная наука от поколения к поколению с тех пор, как стоит мир. И в один прекрасный день они просветят своих подружек, которых мы уже не увидим, научат их тем ласкам, какие мы в простоте душевной считали своими открытиями. Мы же к тому времени обратимся в прах…
Он втянул воздух огромными ноздрями и прибавил:
– Сколько вам сейчас лет, Эмиль?
– Семьдесят четыре, – ответил прославленный врач. – Я не чувствую бремени годов, но они, как говорится, при мне.
Волосы у Лартуа совершенно побелели. Но он сохранял еще свежесть кожи, звучный, чуть свистящий голос и держался по-прежнему прямо. Только руки и веки у него высохли.
– А мне через четыре дня стукнет семьдесят шесть, да-да, – проронил Вильнер, скривив большущий рот. – Скоро конец…
Он был задумчив и величествен, но когда говорил, слышалось его хриплое дыхание: казалось, воздух с шумом вырывается из поврежденной трубы органа.
– О, разумеется, я еще способен внушать любовь, – продолжал он. – И меня любят, любят создания весьма изысканные… Я по-прежнему могу сделать женщину счастливой. Как и вы, впрочем, не правда ли, Эмиль? Ведь вы тоже продолжаете удивлять своего врача? – прибавил он, подмигнув. – Мы с вами – старые чудища, сохранившиеся, как в спирту, благодаря нашей славе…
И Вильнер, повернув голову, бросил взгляд на ночную картину города, который вот уже полвека курил ему фимиам и окружал любовью, города, откуда он черпал ощущение собственного могущества и сюжеты для своих произведений.
Воздух был напоен благоуханием, небо усеяно звездами.
Дома сбегали уступами, светясь множеством окон. Неясная розовая дымка – обманчивая заря столиц, рожденная сотнями тысяч огней, – мягко окутывала крыши. Время от времени резкий луч автомобильных фар прорывал эту дымку, вонзая в темное небо ослепительный клинок, и тут же угасал.
Звуки музыки придавали ночному пейзажу какое-то сказочное очарование.
Высокие вязы, растущие на краю острова Сен-Луи, чуть покачивались, как корабельные мачты. Массивные арки собора Парижской Богоматери казались в темноте подводной частью гигантского корабля.
Внизу, под балконом, черной вереницей выстроились автомобили гостей. Шоферы, опершись о гранитный парапет, смотрели на темную поверхность реки; порою один из них швырял в воду окурок сигареты, и тот, описав в воздухе огненную дугу, с шипением гаснул, едва коснувшись воды.
Ознакомительная версия.