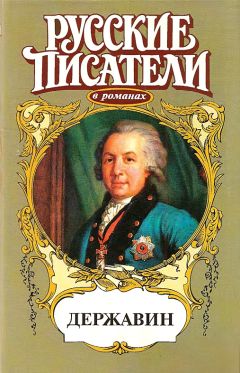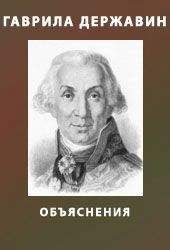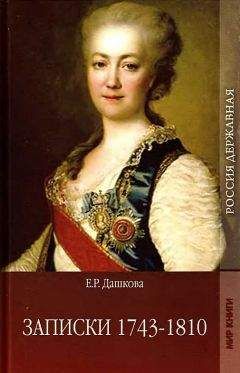Ознакомительная версия.
— Ты написал возвышенную оду в духе Ломоносова. Это и приличествует предмету. Сама Россия заговорила в твоих стихах! — сказал Львов. — Впрочем, ещё одно влияние я чувствую. Сказать чьё? Это Оссиан. Помнишь перевод «Поэм древних бардов»?
Державин с беспокойством спросил:
— А замечания? Я ведь знаю за собой, что небрежен...
Дмитриев не решился сказать что-либо, а Львов взял листки и принялся разбирать оду, строка за строкой, находя неудачные слова и выражения.
— Ты, Гаврила Романович, написал: «Под ними дол, за ними дым». Сие не совсем точно. «Дол» не выражает страшного сего момента. Лучше сказать как-нибудь иначе, — он задумался, шевеля губами, и предложил: — «Под ними стон, за ними дым»...
Державин слушал, кивал головою. Совет Львова написать «ты багришь» или «кровавишь бездны» вместо своего «ты пенишь бездны» он не принял, равно как и «бесстрашно высятся челом» взамен «седым возносятся челом». Зато другие поправки, в том числе и в строчке «Под ними дол, за ними дым», тотчас учёл и вписал вместо слова «дол» «стон». В спорах он иной раз отстаивал ошибочное мнение и на сей раз отказался переделать неловкую строку, «Поляк, Турк, Перс, Прусс, Хин и Шведы». Он упрямился, сердился, но скоро отходил и сам над собой подшучивал.
За разговором и не заметили, как пришло время обеда.
Когда к столу подали разварную щуку, Дмитриев заметил, что хозяин, уставясь в блюдо, что-то шепчет.
— Гаврила Романович, — осмелел молодой поэт, — что отвлекло вас?
Державин с доброю улыбкой откинулся на высокую спинку стула.
— А вот я думаю, случись мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет «и щука с голубым пером...».
Голова его воистину была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих поэтических произведений. И через несколько лет Дмитриев узнал «щуку с голубым пером» в послании Державина «Евгению. Жизнь Званская».
После кофия, когда Львов уехал по неотложному делу, Дмитриев тоже поднялся, но упрошен был остаться до чая. Таким образом, с первого посещения молодой поэт просидел у Державиных до самого вечера.
Прощаясь с Державиным, Дмитриев решился спросить его:
— Почему в ваших прекрасных стихах нет ни славного Суворова, покорителя Измаила, ни прочих знаменитых полководцев?
— Друг мой, — ответствовал хозяин, — не желая прослыть льстецом, решился я отнести в этой оде все похвалы только к императрице и всему русскому народу.
Говоря так, Державин несколько лукавил. Прямо хвалить Суворова поэт опасался. Вернее сказать, он не чувствовал себя достаточно утвердившимся после недавнего падения, чтобы воспеть опального полководца. Это сделал чуть позже Костров своей эпистолой «На взятие Измаила»: «Суворов, громом ты крылатым облечён и молний тысящью разящих ополчён, всегда являешься ты в блеске новой славы, всегда виновник нам торжеств, отрад, забавы...»
Сам Суворов крепко порицал державинскую оду и даже советовал дальнему родственнику и виршеплёту Д. И. Хвостову[44] написать на неё критику: «Похвала есть единственная награда поэта и героя, а как в сей оде ни слова не сказано о Суворове, а всё говорится о князе Потёмкине, который за 200 вёрст был от приступа, то герой, почитающий их дело — взятие Измаила — знаменитейшим из своих походов тогдашнего времени, не мог простить стихотворцу за молчание о нём».
Но полководец явно увлекался, обвиняя поэта в лести Потёмкину. Державин лишь коснулся колоритной фигуры временщика. Зная почти безграничное могущество Потёмкина, можно только удивляться тому, как мало он писал при жизни светлейшего в честь его. И конечно, не Потёмкин выступает в оде «На взятие Измаила» её главным героем, но русский воин, «твёрдокаменный Росс», а главною мыслью в ней является любовь к отечеству, призыв служить ему до последнего часа:
А слава тех не умирает,
Кто за отечество умрёт:
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет.
Времён в глубоком отдаленьи
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.
С гробов их в души огнь польётся,
Когда по рощам разнесётся
Бессмертный лирой дел их звук.
Ода «На взятие Измаила», разошедшаяся по тем временам неслыханным тиражом в три тысячи экземпляров, имела громовый успех. Она была издана отдельно, тотчас по сочинении её, в Питере, а затем в Тамбове и в Москве. Императрица прислала Державину богатую, осыпанную бриллиантами табакерку и, увидя его во дворце первый раз после напечатания оды, сказала с улыбкой:
— Я по сие время не знала, что труба ваша так же громка, как лира приятна...
Звезда Державина снова поднималась.
В феврале 1791-го года Потёмкин прибыл из Ясс в Питер. Кажется, в этот последний свой приезд в столицу он превзошёл себя в расточительности и роскоши, в легкомысленной спеси и праздной лени. Он являлся публике не иначе, как окружённый множеством генералов и пленных пашей с такой пышностью, какой не позволял себе ни один из европейских монархов. В исходе Фоминой недели[45], 28 апреля 1791-го года, старый временщик решил торжественно отпраздновать взятие Измаила в Таврическом дворце, или, как он назывался тогда, Конногвардейском доме.
Это празднество, подробно описанное затем Державиным, его свидетелем и одним из устроителей, явило собой безмерный контраст со всё ухудшавшимся положением угнетённого народа, из которого жали все соки. Незадолго до измаильской виктории, весной 1790-го года вышло «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, гневно заклеймившее самодержавие и крепостничество. «Алчные звери, пиявицы ненасытные, — что крестьянину мы оставляем?» — страстно вопрошал он и требовал: «Отверзите рабам темницу неволи!» В числе немногих, получивших от самого Радищева экземпляр «Путешествия», был и Державин. Однако дворянско-сословная ограниченность поэта не позволяла ему понять революционный пафос книги. Можно сказать, что его собственные помыслы и устремлённость были прямо противоположными радищевской и направлялись на укрепление дворянского государства, воспевание его военной мощи, его блеска и славы.
Всё это отразилось и в державинском описании празднества, и в хорах, заказанных ему Потёмкиным для торжественного сего случая.
Вскоре после присоединения Крыма Екатерина II приказала архитектору Старову построить роскошный дворец наподобие пантеона и назвать его Таврическим, а затем подарила великолепному князю Тавриды. В здании с высоким куполом была огромная зала, которой необыкновенно величественный вид придавали два ряда колонн. Екатерина II купила потом дворец у Потёмкина, заплатив ему 460 тысяч рублей. А когда он приехал, увенчанный лаврами измаильского победителя, императрица в числе многочисленных милостей и наград опять подарила ему Таврический дворец.
Конногвардейский дом не был вполне отделан: перед главным подъездом тянулся забор, скрывавший ветхие строения. По приказанию Потёмкина забор и строения в три дня были уничтожены, место расчищено и устроена площадь до самой Невы. Сам светлейший наметил и программу празднеств. Под его смотрением несколько недель трудились сотни художников и мастеров. Множество знатных дам и кавалеров собирались для разучивания назначенных ролей, и каждая из этих репетиций походила на пышное празднество.
В Питере пропала мелкая и чистая мука, коей порошили голову. Для освещения дворца скупили весь наличный воск, и за новой партией был послан нарочный в Москву. Всего воску закупили на 70 тысяч рублей. Модные портнихи, волосочёсы были нарасхват. Щеголихи за несколько дней готовились к знаменитому празднеству, водружая на голове самую модную причёску «lе chien couchant»[46]: посредине большая квадратная букля, словно батарея, от неё по сторонам косые крупные букли, точно пушки, назади шиньон. Вся причёска имела не менее полуаршина вышины.
В назначенный день, в пятом часу на площади перед Таврическим дворцом уже стояли качели, столы с яствами, кадки с мёдом, квасом, сбитнем и разные лавки, в которых должны были безденежно раздавать народу платье, обувь и шапки. Час от часу толпа клубилась всё плотнее, ожидая раздачи нитей и одежды. Народу было объявлено, что это произойдёт, когда будет проезжать Екатерина II.
Богатые экипажи один за другим подкатывали ко дворцу, на фронтоне которого сверкала надпись, составленная из металлических букв и выражавшая благодарность Потёмкина «великодушию его благодетельницы». Тут можно было увидеть и большие высокие кареты с гранёными стёклами, запряжённые цугом крупных породистых голландских лошадей с кокардами на головах, и лёгкие, изящные двухместные кареты в виде веера, и кареты-дворцы, дверцы которых были расписаны пастушечьими сценами Ватто и Буше.
Ознакомительная версия.