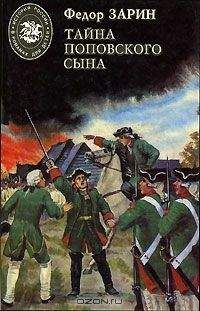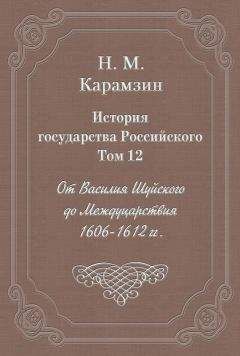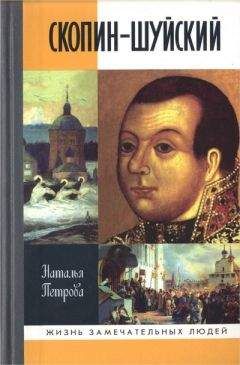— Обычный порошок. Ермолай, чего не смотришь?
— Та чего там смотреть, може, мел толченый альбо соль.
— Так лизни, — сказал весело Болотников, и все расхохотались.
— Не-е. Ще пожить хотца, — отвечал Ермолай, тоже улыбаясь.
— Возьми, сверни как было. Ну и что ж тебе, Каспар, было обещано за это? Какая награда?
— Сто крестьянских душ и триста рублей жалованья ежегодно.
— У-у, щедро! А разве наперед он тебе ничего не дал?
— Дал коня, — отвечал Фидлер, не решившись сказать о деньгах: еще, чего доброго, отберут.
— Тут поскупился царь, поскупился, коня могут за любым углом отобрать.
— Это верно, пан воевода. Вон евоные орлы и отобрали.
— Это воротим. Федор, вели вернуть коня ему.
— Воротим, Иван Исаевич, о чем речь.
— А как же он поверил тебе, Каспар? — продолжал любопытствовать Болотников.
— Так я ж сам вызвался.
— Сам?
— Ну да, я давно хотел перейти к тебе… И к тому же клятву ему принес на кресте. Он и поверил.
— Ну клятве кто не поверит, — согласился воевода. — А вообще спасибо тебе, Каспар, за все.
— Не за что, пан воевода.
— Как не за что? А кто жизнь мне спас, разве этого мало? Ермолай, покорми человека, устрой.
Когда Ермолай с Фидлером ушли, Болотников взглянул на атаманов:
— Ну как вам мой отравитель?
— Не нравится он мне, — сказал Нагиба.
— Ну тебе ясно, почему не нравится, орлов твоих осрамил. А тебе, Иван Мартыныч?
— Черт его знает, поди разберись. Но вот что через крест переступил, это худо.
— Ты так думаешь?
— А чего думать? Вон Ляпуновы не присягали ли тебе. Где ныне?
— Этих поймаю, обоих повешу вместе с Пашковым. Не они б, я бы уже в Москве был.
— Вот сам и ответил на свой вопрос, — сказал Заруцкий, поднимаясь. — Пойду до своего куреня, там хлопцы галушки обещали сварить.
Когда Ермолай воротился в воеводскую избу, Болотников был один.
— Ну устроил отравителя?
— И покормил, и устроил, и казаки коня ему воротили.
— Ну и славно, встретили немчина по-людски. Ты вот что, Ермолай, возьми себе эту берестяночку с ядом, улучи час и подсыпь ему в питье.
— Боишься его, Иван Исаевич?
— С чего ты взял? Может, это и не яд вовсе.
— А если не яд?
— Тогда мы его на дыбу и поспрошаем, с каким таким делом он к нам явился.
— А если это яд и он помрет?
— Значит, так Богу угодно. Ты его никак жалеешь?
— С чего вы взяли?
— Вижу, вижу, Ермолай, жалеешь. Так вот не жалей, он через крестоцелование переступил, словно в лужу плюнул. Сегодня Шуйскому изменил, завтра мне изменит. Такого нечего жалеть, Ермолай. А сейчас садись, пиши прелестные письма москвичам.
— Будешь говорить?
— А зачем? Пиши как и под Москвой, мол, Дмитрий Иванович у нас и зовет их под свою высокую руку, не велит против него оружие подымать. А тех, кто придет к нему, примет и наградит великими милостями.
— А много листков надо?
— Сотни две, не менее.
— Ого, да это ж когда я управлюсь.
— Ну возьми себе помощника.
— Кого?
— Да хотя бы немчина этого, Каспара, пусть потрудится под конец. Где-нито и подсыпешь ему его порошки.
— Ох, Иван Исаевич, толкаешь ты меня на грех.
— Какой это грех — Иуду убить.
Ночь была темная, безлунная. Бодрствовали лишь сторожа на вежах[47], кутаясь в овчиные шубы. Тихо тлели возле пушек фитили на пальниках, источая вонючий дымок. Спала вся Калуга, только в оконца воеводской избы горел огонек, там за столом, обложившись листками бумаги, скрипели перьями Ермолай и Каспар. Ермолай, проверив первое письмо, написанное немцем, не удержался от похвалы:
— Ну почерк у тебя, братец, аж завидки берут.
— У меня в юности учитель был строгий, каждую букву заставлял по сто раз переписывать. Чуть не так, линейкой по лбу, а то и по рукам.
— Ну тебе его за это благодарить надо.
— Конечно, конечно. Нынче-то я благодарен, а тогда ненавидел. Глупый был.
«Господи, и я должен его травить, — думкой маялся Ермолай. — Такого человека ученого. Нетушки, Иван Исаевич, нема дурней».
К утру Ермолай, начавший уже клевать носом, влюбился в Каспара. Даже пытался подражать почерку его. Но не получалось: «Мало лупцевали меня, наверно».
Когда начало светать, Ермолай поднялся, потянулся с хрустом косточек:
— Пойду до ветру.
На улице по хрусткому снежку добежал до отхожей будки, вытащил берестяночку с ядом, высыпал в дырку и даже помочился на нее с торжеством, приговаривая: «Вот вам, вот вам…» А кому это «вам»? И сам не знал.
Когда днем появился воевода Болотников, Ермолай представил ему пачку прелестных листков, умышленно сверху положив листки Фидлера.
— Ух ты, как красиво! — не удержался от восклицания Болотников. — Сколько сделали?
— Штук девяносто примерно.
— Что так мало?
— Хых. Сядь да попиши, — осерчал Ермолай.
Для неграмотного воеводы это был удар под дых, но он стерпел.
— Ладно, ладно. Вижу, потрудились славненько. Денек попишете и будет двести.
— Иван Исаевич, а спать кто за нас будет? А? Вы все дрыхли, а мы…
— Ладно, не шуми, Ермолай. Идите в поварню, перекусите чем-нито и отдыхайте, а в следующую ночь и закончите.
Когда писарчуки были уже в дверях, Болотников сказал:
— Да, Ермолай, после завтрака зайди на часок, надо грамоту князю Шаховскому изготовить.
— Ладно. Заскочу.
Когда после завтрака Ермолай воротился в воеводскую избу, Болотников спросил:
— Ну подсыпал немцу зелья?
— С чего ради?
— Как? Я ж тебе велел.
— Мало ли чего вы ни велите. Вы видели, как он пишет?
— Ну видел, так что?
— И такого человека травить? Да я ввек этого не сделаю.
— Ну, Ермолай…
— Что «Ермолай»? У вас вон атаманы и сотники. А у меня? Перо гусиное да чернильница. Мне тоже нужен помощник. Вот пусть Каспар и будет со мной. У меня от одних «прелестных писем» рука скоро отсохнет.
— А что? Неужто может?
— Конечно, у скольких уже пишущих отсыхали.
— Ну так бы и сказал, что еще один писарчук нужен. Чего шуметь-то? Садись к столу, бери перо. Пиши. «Дорогой Григорий Петрович, любыми посулами вызывайте царя Дмитрия сюда. Если б он был здесь, мы уже бы были в Москве. Никак не пойму его упорства. Ведь когда он посылал меня сюда, сказал, что будет тотчас, едва я приближусь к Москве. Я был уже возле нее, а теперь вот нахожусь в Калуге, обложенный армией Шуйского, и все из-за отсутствия Дмитрия Ивановича. Мне уже надоело врать, что он вот-вот прибудет к армии. Окружение это мне одному трудно будет прорывать, посему прошу вас подвигнуть князя Телятевского идти ко мне на помощь. А вам, Григорий Петрович, хорошо бы объединиться с царевичем Петром, идти на Тулу и взять ее, пока туда не явился Шуйский. Тула, пожалуй, главнее Калуги, так как там много кузниц, кующих оружие. Ее никак нельзя уступать Шуйскому». Все. Дай подпишу.
С некоторых пор, а именно с того времени как Ермолай научил воеводу рисовать пером первую букву его фамилии, Болотников с удовольствием выводил ее в конце письма, и каждый раз писарь напоминал:
— А змейку?
И воевода, начиная от буквы «Б», делал «змейку», которая должна была обозначать другие буквы фамилии, пока еще не выученные Болотниковым: «Возьмем Москву, выучу все, а пока некогда».
После воеводской подписи Ермолай посыпал грамоту мелким песком, чтобы впитались лишние чернила. Потом, сдув песок, свернул грамоту в трубочку, перевязал бечевкой, подал воеводе.
— Готово, Иван Исаевич.
Болотников взял грамоту и спросил:
— А где у тебя берестянка?
— Какая берестянка? — не понял Ермолай.
— Та, что с ядом.
— Я ее выкинул, Иван Исаевич.
— Как? — удивился воевода. — Как ты посмел?
— А просто, пошел в отхожее место и кинул. Зачем она вам, воевода? Ваше дело воевать, а не травить.
— Ну и жук ты, Ермолай. Полагалось бы всыпать тебе плетей, но тебя теперь не достигнешь рукой — главный писарь армии его величества.
И, погрозив Ермолаю пальцем, неожиданно рассмеялся.
Их было трое. Два брата, Матвей и Гаврила Веревкины, и Александр Рукин, выдававший себя за московского подьячего. В разоренной измученной стране, наводненной разбойниками и нищими, в одиночку было трудно выжить. А втроем все же полегче. Разбойничать, конечно, им не с руки было (отряд мал), но воровать втроем в самый раз. В основном они промышляли ночью по сараям, чуланам и амбарам. Рукин оставался снаружи, а братья залезали в сарай и брали там все, что под руку попадалось, чаще всего кур или яйца. Если возникала опасность, Рукин крякал селезнем, и Матвей с Гаврилой выскакивали наружу и пускались наутек.