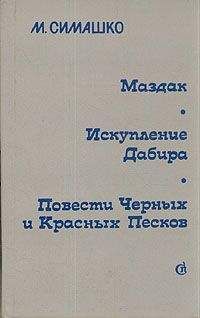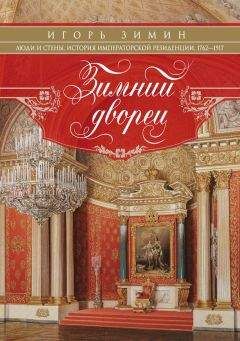Еще девятерых, которые опаздывали округлить рот при знаке пайгансалара, уволокли во тьму. С царем царей ушел Сиявуш другой дорогой…
Все прошли уже из Царского Совета, но продолжали стоять черные люди. Холодную тяжесть ощутил Авраам в груди и животе. Она разливалась по телу, сползала в ноги…
Глава царских писцов Фаруд медленно прошел под крючьями, остановился, повернулся. Мертвый свет падал на его улыбающееся лицо. Была очередь идти Аврааму.
С тихой реальностью приближались висящие в ночи крючья. Тускло поблескивали острые загнутые наконечия. Над головой уже покачивались они. Что–то ледяное коснулось уха…
Все ближе было лицо Фаруда. Только когда завопили за спиной, оглянулся Авраам. Черные тени плясали там, и слышалось тихое шуршание. Армянина Вуника утаскивали во тьму…
На другой день сказали Аврааму, что едет он с посольством к ромеям, в Константинополь. Все та же ночная улыбка была у известившего об этом Фаруда. С нескрываемой враждебностью прикладывал он казенный перстень с печатью к ходатайству о выдаче подорожных денег. И о «красных абрамах» упомянул что–то…
Авраам шел и думал, почему его посылают сейчас к ромеям. О царе царей не убоялся пробормотать Фаруд, что не по–арийски падок тот к жугутским прихвостням, даже имена их помнит…
И врач Бурзой, у которого жил он теперь, удивлялся. Крючьями волокут сейчас всех, кто был в красных диперанах. Лишь вчера бросили под слонов великого арийского певца Кабруй–хайяма. А его отпускают…
«В один день родились мы с тобой, христианин Авраам…» Так сказал ему когда–то Светлолицый. Арийское древнее поверье есть, что судьбы ровесников связаны. Может быть, потому и не потащили его крючьями по указке Фаруда, а сейчас отправляют из Эраншахра…
Врач Бурзой при прощанье сдвинул густые брови, посмотрел в глаза.
— Тебе лучше подольше оставаться у ромеев, мой Авраам… — сказал он.
Квадриги мчались, веером вздымая тяжелый мокрый песок на поворотах. Одномастные кони были впряжены в колесницы, голубые и зеленые ленты вились в хвостах и гривах. Такие же — голубые и зеленые — рубашки были у возничих, а на громадном ипподроме по тем же цветам разделялись трибуны. Даже в кесаревой ложе наряду с голубыми были зеленые платья. Когда какая–нибудь квадрига вырывалась вперед, неслыханный рев возникал на трибуне, в чей цвет была она…
Нет, не останется он у ромеев… Авраам это понял, как только переехал границу и медленно затих за спиной теплый бронзовый звон языка пехлеви. Шумели такие же пестрые, как в Нисибине, приграничные базары, много дней вертелись по кругу над ущельями каменнокрасные армянские селения с крестами на скалах. А потом раздвинулась земля, засияло голубое море, и белые колоннады с уходящими в волны лестницами утверждали бесконечную красоту мира…
Ухожены были сады и виноградники в ромейской Кесарии, крепкие сытые рабы трудились в полях и имениях. Бесчисленные виллы стояли по холмам, и легкие невысокие стены окружали их подножья. Давно уже не знала нашествий эта часть империи. Сюда не доходили ни готы, ни прорывавшиеся всякий раз через Кавказ многоликие гунны. Лишь изредка беспокоили с моря вандалы, но в последнее время не решались заплывать дальше Родоса. Люди улыбались друг другу в селениях. А сердце Авраама кровоточило от тоски по черным камням Ктесифона, и не спалось ему ночами…
Вороная квадрига со светло–зелеными лентами вырывалась к финишу, и закричал в победном восторге Авраам, ибо прасины — «зеленые» — были все его друзья в Новом Риме…
К Леониду Апиону, патрицию, ходил он здесь всякий вечер. Торговыми делами в товариществе управлял тот, потому что сюда, в Константинополь, переместилось все. Те же люди, что и на ктесифонском подворье, собирались в двухэтажном складе на берегу спокойного синего залива. Лишь торговые пути стали длиннее и товары вздорожали. Зиндбад–мореход плавал на своих тайярах где–то вкруг Кульзума, огибая Эраншахр. В Палестину и коптскую Александрию везли потом посуху шелк, золото, индийские камни, пряности, а там снова все перегружалось на корабли. Авель бар–Хенанишо уже в третий раз ушел с караваном через Тавриду, гуннские и хазарские земли. Дорого обходилась охрана, потому что гипербореи в шкурах выходили из своих лесов далеко в степь и нападали на путников. Кесарь поощрял прасинов, вершивших денежные и торговые дела в империи. В два с половиной раза выросли поступления в его казну после разгрома товарищества в Эраншахре.
На этот раз взвыли венеты — «голубые». Две их колесницы сразу обошли «зеленых», и первые четыре лошади несли на мощных грудях белую ленточку финиша к кесаревой ложе. На краю трибуны прасинов сидел Авраам и в который раз изумился людскому буйству. Двадцать тысяч «голубых» скакали, били в радости друг друга по спинам, плакали. Через несколько рядов от него в патрицианской ложе старый достойный сенатор Агафий Кратисфен в неистовстве колотил палкой по барьеру. А ведь в предыдущем заезде сам Авраам прыгал, как пьяный козел в ромейских празднествах — брумалиях…
Тот же старый неумный шахрадар, ведший с ромеями переговоры в Нисибине, послан был в Константинополь. Не ему было тягаться с этим Агафием Кратисфеном и холодными кесаревыми евнухами. По–персидски хитрил он и, пожалуй, смог бы обмануть добрую сотню других шахрадаров. Так сказочный воитель Ростам обманывал некогда туранцев, забираясь в их крепости под видом купца. Но совсем в иной плоскости вершилась ромейская политика, и неуклюже мерзкими казались первобытные шахрадаровы ухищрения…
А вдобавок приставлен был к посольству человек в черной куртке–кабе, имевший, по обычаю, лишь прозвище. Барсуком звали его среди своих, и Авраам помнил, как на ступенях чужого дасткарта отвязывал тот лодку, куда попрыгали потом убегающие гуркаганы…
Видать, по внешнему подобию брали они себе клички в каризах. Переваливаясь на кривых коротких ногах, ходил Барсук, и тяжелые крючковатые руки цеплялись за все по пути. Грамоты не знал он и не смыслил ничего по–ромейски, но сидел на всех диспутах и внимательно смотрел в животы говорившим. Глухое недоброе ворчание издавал он всякий раз, когда уходил Авраам по своим делам от посольства. Прислужники Барсука ходили по пятам…
Персы еще до подхода ромейских армий ушли от Феодосиополя, Амиды и Эдессы, так что быстро договорились о том, что все остается при старых границах. Но требовали возмещения ромеи и не хотели давать золото на охрану кавказских проходов. А персы решили навечно замкнуть эти проходы стенами, уходящими от гор прямо в море. Все больше денег требовалось им…
И еще самим царем царей было поручено шахрадару просить кесаря усыновить до совершеннолетия царевича Хосроя. Так уже было между Эраншахром и ромейской империей. Царь–грешник Ездигерд Первый воспитал при себе малолетнего кесаря Феодосия, и долго не воевали тогда ромеи с персами.
От младшей из трех царских жен рода Испахпатов родился Хосрой. Еще два сына от других законных жен было у Светлолицего Кавада. Средний сын Зам потерял глаз при соколиной охоте, так что не годился в цари. Зато старший, царевич Кавус, надевал уже черную куртку и ездил ночами с людьми пайгансалара. Поэтому как только имя третьего сына Хосроя услышал Барсук в речи шахрадара, то рявкнул на него, не стесняясь ромеев…
Все свелось к тому, что другое, более высокое, посольство прибудет со временем ко двору кесаря, и тогда решатся все дела между империей и Эраншахром. Кесарь не допустил к себе шахрадара с его людьми. Лишь императорским магистром оффиций были они приняты, да еще евнух–препозит кесаревой опочивальни поговорил с ними. И это было уже неплохо, потому что прямое отношение к императрице Ариадне имел он, которая после смерти Зенона с согласия сената и цирковых партий — демов избрала себе мужем нынешнего кесаря Анастасия. Пока что от персов были только взяты подарки. В гостином дворе, где жили они, составлялся караван с ответными дарами кесаря царствующему брату и богу Каваду…
Квадриги медленно уплывали в ворота, провожаемые неистовствующими трибунами. Вдруг словно ветер прошел по ним, и все стихло. Лишь где–то внизу явственно слышалось рычание. Диких зверей выпускали в ров, разделявший трибуны, чтобы не случилось побоища…
Прямо напротив кесаря стояли приподнятые над остальными голубые и зеленые ложи возглавлявших обе партии народных вождей — демархов. Были еще белые и розовые демы на ипподроме, но немногочисленные ряды их примыкали к главным цветам: «белые» — левки к венетам, а «розовые» — русии к прасинам. Они редко выставляли собственные колесницы…
— Приветствую тебя, великий народ!
Это глашатай кесаря провозгласил в гигантский рупор, и человек в пурпурной мантии с диадемой на голове по–римски вскинул руку. В такие же рупоры отозвались ложи демархов: