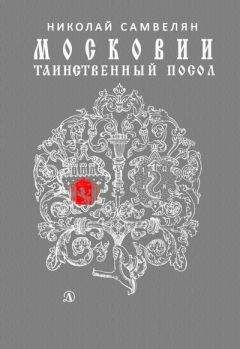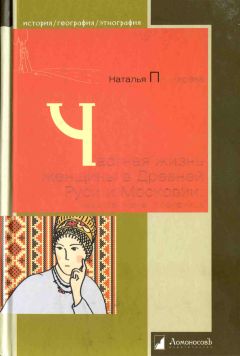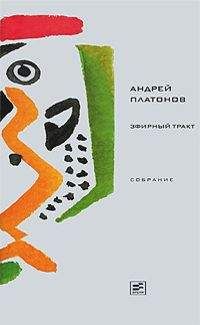Перепуганный Гринь побежал за младшим Иваном, разбудил его. Они решили вместе дожидаться печатника.
— Батя! — крикнул Иван, когда печатник вошел. — Живой?
— Вполне, — ответил Федоров. — Значит, ты, Гринь, вскрыл письмо? Как же тебе впредь верить?
— Нельзя мне верить, Иван Федорович. Сам я себе не верю.
— Ладно, ложись спать. Утром разберемся.
Но сам печатник долго не мог уснуть. Сердце рвалось из груди, норовило выскочить через горло. Дышать было тяжко, а перед глазами плыли разноцветные круги. Дожить до рассвета — там видно будет.
Но утром печатник был бодр. Велел звать Лаврина Пилиповича. Все вчетвером — Лаврин, печатник, Гринь и Иван — отправились они в харчевню «У башни».
Пенилось пиво. Стучали о деревянные столы кружки. В дальнем углу побрякивали сабли, слышались осипшие голоса, звавшие желающих в очередной поход в Палестину. Самое время! Добрели бы хоть до ближайшего угла! В полумраке кто-то звал свою маму и даже святую деву Марию.
А за соседним столом бледный юноша, наверное поэт, вытянув тощую шею и закрыв глаза, читал нараспев стихи Миколая Рея:
Молился ксендз, ревела баба что есть силы.
«Чего ревешь? — ее соседка зло спросила. —
Ведь это же латынь, а ты ее не знаешь!» —
«Не знаю…» — «Так чего ты глотку раздираешь?»
«А ксендзу я и так, — сказала баба, — верю.
К тому ж напомнил он тяжелую потерю:
Мой ослик, что издох, совсем не знал латыни,
А голосил, что ксендз, на свой манер ослиный».
Шляхтич, рвавшийся в поход на Иерусалим, заявил, что отрежет за такие стихи бледному юноше уши.
— Богохульство в приличном месте!
— Молчи! — сказал юноша шляхтичу. — Не твоего ума дело. Это стихи великого поэта.
— Великие поэты такое не пишут. Они пишут возвышенно и приятно для слуха.
— Налейте ему еще пива, чтобы замолчал!
Жирная, сытая и не богобоязненная жизнь дымилась вокруг. Из кухни доносился запах жарящихся на вертеле гусей.
Застенчивый Лаврин чувствовал себя здесь неловко.
— Так и губят люди свою жизнь, — пробурчал он. — Во имя чего?
— Жизнь можно губить по-разному, — сказал печатник. — Можно так, а можно и иначе, даже не беря в рот вина.
Хозяин харчевни и слуга принесли на вертеле трех розовых, хорошо прожаренных гусей. Аппетитный запах разбудил уснувшего уже шляхтича, который, так и не дозвавшись своей мамы и святой девы Марии, некоторое время отсутствовал в этом мире, подхваченный с двух сторон под руки Бахусом и Морфеем и увлеченный ими в далекие светлые страны, где даже не надо расплачиваться за выпитое пиво.
— Гуси! — сказал пьяный шляхтич. — Гуси — это хорошо!
— Они Рим спасли! — добавил печатник. — И лично меня. Однажды, когда шел из Острога во Львов, подобрал я в одном селе какого-то худого гуся. Мы его зажарили и съели.
— Помню! Помню! — обрадовался младший Иван.
— Шли мы тогда во Львов просить в долг денег, чтобы открыть типографию. И сейчас то же самое — надо просить…
— У кого? У всех, у кого могли взять, взяли.
— Нет, не у всех. Будем просить у простых людей. У каждого. Кто сколько сможет, тот пусть столько и даст. Просить на «Азбуку» и школы не стыдно. Тут я готов хоть весь день стоять с протянутой рукой. Ты, Лаврин, с моим Иваном останешься во Львове. Я поеду в Луцк, Дубно, Киев, Кременец, Винницу. А ты, Гринь, в Вильно.
— А не боишься, пане Иван, что я снова у Мамоничей останусь?
— Боюсь. Да что же мне делать? Надо рисковать.
— Много ли соберем?
— Сколько дадут. Все пригодится.
Они просидели в харчевне больше часа. Печатник чувствовал, что никому его идея не понравилась. Или же все устали, у всех свои заботы?
Подошел хозяин. Федоров отдал ему злотый. По крутой лестнице выбрались они из подвала. День был серый. И дождик собрался. Усы каменного льва у ратуши уже были мокрыми, и оттого лев этот казался грустным.
— Стойте! — сказал вдруг печатник. — Рано еще по домам. Пошли на Высокий замок. Да не трусь ты, Лаврин. Не хватайся за сердце. Эту гору оно как-нибудь выдержит.
Лаврин кое-как шел по тропе, но жаловался. И не только на сердце, но и на свою покладистость, на детей, на дороговизну и на жизнь вообще.
— Вот! — сказал печатник. — Смотрите сюда: город. Большой, богатый, красивый. Надо всеми домами — костел. Пока что этим костелом он и славен. Но мы можем поставить здесь типографию и академию. Без царя. Без князя. Без гетмана. И повезут отсюда книги в Москву, Киев, Чернигов, повсюду. А ученые юноши после академии пойдут по всей нашей земле нести науку. И ведь мы это можем сделать. Можем! Это я тебе говорю, Гринь! И тебе, Иван!
А затем печатник схватил за руку Лаврина и сдернул его на крутую тропу. Они побежали вниз. За ними — Иван. Последним, вздохнув, покатился вниз и Гринь. Остановились у самого подножия горы. Лаврин хохотал и вытирал глаза рукавом.
— Заставил ты меня на старости лет прыгать козлом! Я ведь и в детстве такого не любил, был серьезным ребенком и все больше молился, а не через веревочки скакал.
А Гринь глядел на печатника и диву давался: до ста лет проживет. Не берут его годы. Зубы белые, ровные, глаза веселые, живые.
И поймал Гринь себя на мысли, что сам себе он кажется взрослее и серьезнее печатника. Не успел Гринь все это подумать, как увидел, что бритые щеки Федорова стали вдруг пепельными, а глаза погасли. Печатник покачнулся. Иван взял отца под руку.
— Не надо было бегать! — причитал Лаврин. — Ни к чему нам это!
— Жаль, что не там, когда бежали, меня схватило, — сказал вдруг Федоров, задыхаясь. — Так и умер бы на бегу. А ты, если хочешь, помирай в постели…
Его отвели домой.
Лаврин посидел немного у постели печатника, спросил, нужно ли чего прислать.
— Ты уж извини, должен идти. Прости меня. Жена заждалась.
— Конечно, — сказал Федоров. — Ступай. Да мне уже и вовсе хорошо. Сейчас поднимусь. И ты, Иван, иди.
Но Иван остался. Они дотемна вместе с Гринем были около печатника.
— Может, не надо, отец, новых друкарен и новых долгов? Я не о себе говорю. Худо ли, бедно ли, но меня ты вырастил, на ноги поставил. Было время — сердился я на тебя. А иногда подумаю — другого отца и не надо. Скучно мне было бы с другим отцом.
— Подожди, Иван, — сказал печатник. — Я ведь еще не помер. Прибереги слова. А типографию надо открыть. Со мной или без меня. Никакой другой задачи у нас нет. И ты, Гринь, сделал не все, о чем договаривались.
— Так ведь олово закончилось. Я уж два набора шрифтов и отлил и отшлифовал.
— Олово купим. Тебе, Иван, за бумагой придется ехать. Я привез из Кракова немного. Нужен запас.
— Сколько злотых нам надо? — спросил Иван. — На все вместе — на школу, на друкарню?
— Две тысячи. Я подсчитал.
— Ой! — сказал Гринь. — Ой! Откуда?
Младший Иван покачал головой: где взять?
Но старик уже спустил ноги с кровати на пол. Он сидел согнувшись. Горбом спина. Сухие руки лежат на коленях.
— Может быть, курфюрст из Дрездена ответит. Я ему пушку и бомбарду предложил. Это раз. Здесь еще немного соберем. Это два. Письма я получил издалека. От людей незнакомых, но, чувствую, верных. Они скоро здесь будут. Это три.
— Люди из Вильно?
— Нет.
— Из Москвы?
— Тоже нет. Не гадайте. Сказал же — скоро здесь будут. Сами увидите.
Гринь вышел проводить младшего Ивана и запереть за ним дверь.
— Откуда у него столько сил? Ведь стар уже.
— Может быть, раньше люди были другие? — ответил вопросом на вопрос младший Иван. — Они все были сильнее, чем мы с тобой. Сейчас вроде и дома получше, чем строили в их времена, и харч пожирней, а народ пошел хилый. По себе чувствую. Куда мне до отца! Всегда чувствовал, что не вытяну рядом с ним. Устану. Собьюсь с шага.
— Да ведь и я тоже, — признался Гринь. — Не угонюсь за ним. Иной раз стыдно мне становится. А толку? Послушай, а может быть, все дело в том, что для себя мы с тобой живем, а он не для себя самого выгоду ищет? Я думал об этом… Если б мне сказали: «Иди, Гринь, прикуют тебя, как Прометея, к скале, а орел каждый день будет прилетать и клевать тебе печень… Больно будет, трудно, зато людям огонь и свет достанется…» Знаешь, Иван, я бы не согласился… Да и не выдержал бы такого… А он… Не знаю… Он, думаю, мог бы! Рядом с такими людьми жить интересно и боязно. Ведь каждому хочется своего маленького счастья. Ему маленькое не нужно. Ему нужно большое, для всех… Но большое когда еще придет! А как же быть с нашим, маленьким?
— Не знаю, — устало сказал Иван. — Не знаю, как быть с нашим, маленьким. Может быть, маленького счастья не бывает. Боремся мы за него, бьемся в одиночку, а толку мало.