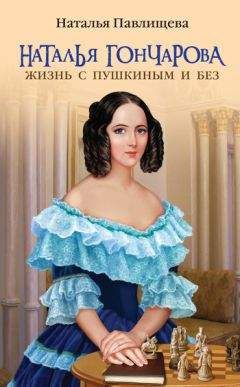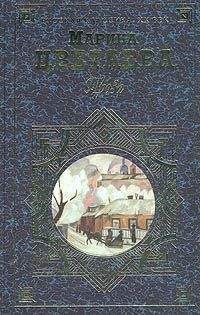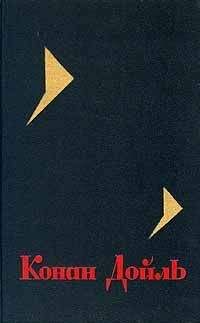не только и не столько мне, но скорее во имя Третьего отделения, и судьбы всех тех, кто связан с ним, – подытожил Мейер.
Закончив речь, он к своему стыду, с ужасом понял, что не так горд, как ему казалось, и не так храбр, как он на то рассчитывал. Правая рука предательски дрожала, так что левой рукой пришлось накрыть ее, чтобы унять постыдный тремор.
– Михаил Иоганович, даже если бы я мог, не давать ход этим документам… Однако же для всего этого уже слишком поздно. Вы думаете, что представляете интерес для графа Л., для того у кого сейчас находятся эти документы? Вы думаете, что ежели предпримите усилия, вас пожалеют? Ежели вы так думаете, то вы глупее и наивнее чем я думал. Он ни за что не упустит этот козырь, его главная и первоочередная цель, очернить Третье отделение в глазах Императора, показать его полную недееспособность и неэффективность. Граф Л. Уже давно подбирается к нему, стремясь полностью подмять под себя власть, явив на свет монстра надзора и наказания. Он одержим идеей создания Министерства внутренних дел. Дни третьего отделения сочтены, – сказал горько Чревин, откинувшись на спинку кресла, словно устав не только от Мейера, но и от самого себя.
– Большая игра, большие ставки, не вы явились причиной гибели Третьего отделения, но Вы, ускорили процесс. Так что, по поступках и расплата будет. Боюсь мне нечего, Вам больше сказать, – заключил Главноуправляющий.
Услышав это, в Мейере вскипела такая ярость и такой гнев, от несправедливости, от обиды, от злости на них и на себя, что, не выдержав, он вскричал:
– Что ж, не удивлен, что Третье отделение наводнили шпионы «Земли и воли» и еще Бог знает кто, стремящиеся разрушить все то, что создано! И власть, что призвана стоять на страже интересов государства, отчего то не борется с реальной угрозой, а занята по большей части преследованием своих же людей, которые верой и правдой, служили ему. И прикармливая змей, пригревшихся у вас на груди, обрекаете и себя и Государство на погибель. Ну что ж, вы правы… как вы правы! По поступкам и расплата будет! Разрешите откланяться! – и твердым шагом вышел из кабинета.
Прочь. Прочь от прошлого, от людей, от обмана и лжи, от себя. Чувство глубокого отвращения ко всему, частью чего он был столько лет, захлестнуло Мейера, но прежде всего чувство глубокого отвращения к самому себя, ибо нельзя оставаться чистым и непогрешимым, являясь частью системы порока и лицемерия. Рано или поздно она съест тебя, твою честь и достоинство, перемелет, измельчит, истребит все живое и чистое в тебе, и выбросит как ненужное и отслужившее. И люди, люди все до одного стали противны ему и он противен себе сам.
Шел, бежал, не разбирая дороги, но по наитию, по перерезанным улицам, вдоль обшарпанных и грязных дворов, мимо темных и злачных подворотен, боясь остановиться, боясь подумать.
Словно загнанный стаей собак раненый лис, метался в поисках выхода, но оказавшись припертым к стене, знал, что как бы быстро он не бегал, как бы хитер он не был, его уже догнали.
Вдруг кто-то стукнул его в плечо. Он слепыми от отчаяния глазами посмотрел перед собой.
Засаленный, затертый сюртук, клочья волос, испещренное морщинами, будто карта военных действий лицо, и беззубый, но добродушный рот. И было в том лице и безумие, и беспомощность, и святость, и что-то знакомое, и вместе с тем неизвестное.
– Александров! – вдруг воскликнул Мейер. В этом блаженном лице, едва ли можно было узнать когда то самого известного судебного поверенного Петербурга. Блестящее образование, не дюжий ум, и благородство, и честь, и доблесть, пока безумие не поглотило его.
– Как я рад Вас видеть, Михаил Иоганович, – почти со слезами на глазах воскликнул Александров, пожимая руку и обнимая Мейера так тепло и по-дружески.
– Я вас по правде, с трудом признал, – извиняясь, произнес Мейер, чувствуя себя и раздосадованным и испуганным, и находясь в смущении того рода, как если б встретил призрака из прошлого, а может из будущего, что скорее даже вероятней, нежели недостижимо и немыслимо.
– Но узнали, и то ладно, – просто и добродушно ответил тот.
– Как ваше здоровье, Алексей Тимофеевич? Где вы сейчас? Чем живете?
– С маменькой, – без обиняков и прямо ответил Александров, – снимаем комнату, денег нет, но и не жалуемся. Вот только болезнь, будто заживо меня ест, и названия то которой нет, – и он с досадой постучал себя по лбу, – Устал я признаюсь, вот раньше так легко писалось, а теперь! Идеи то есть, бывает всю ночь не сплю, и так много мыслей, и все разумные, а встану, сяду за перо, и не напишу и строчки, все будто исчезнут, растворятся, опять ложусь, опять идеи, мысли, и одна лучше другой, а встаю, и снова пустота, будто в прятки со мной играют. И бессонье и бессилье. Измаялся я, устал, и выхода нет, – грустно вдруг заключил Александров, и как будто вспомнив о чем то важном, запустил руки в огромные растянутые карманы, начал в них шарить, по всей видимости, в поисках чего-то крайне важного.
Мейер стоял, словно остолбеневший, слова сочувствия и поддержки застряли и не произносились, ему вдруг стало так горько и за него, и за себя, но прежде всего, конечно, за себя, потому что шагни, и там окажешься. И хрупко, и тонко, и зыбко, как по весеннему льду.
– Не ищите Алексей Тимофеевич, не важно, да я и тороплюсь, простите меня великодушно, мне бежать надо, ждут меня, – попытался попрощаться Мейер и уже собирался уйти, как Александров достав несколько измятых бумаг, глядя на него своими чистыми, но безумными глазами, схватил его крепко за рукав, торжественно произнес:
– Нашел! Последнее, после этого ни строчки не получается, возьмите, – и он протянул рукопись Мейеру, – возьмите, она Ваша. Я рад, что свиделся с Вами, судьба не иначе.
И с этими словами отпустил руку, и, не прощаясь, ушел, оставив испуганного и озадаченного Мейера в обманчиво желанном одиночестве.
Михаил Иоганович, скомкав листы бумаги, еще постоял секунду, и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, пешком, не отвлекаясь на извозчика, петляя кривыми переулками и шагая прямыми линиями проспектов, отправился туда, куда сказало ему…
Сердце?
Оказавшись перед доходным домом, где сдавались в аренду роскошные меблированные квартиры, он в замешательстве остановился, как будто не решаясь ступить на порог. И вновь все было ему знакомо и одновременно казалось таким чужом, словно все это было прожито не в этой жизни, а воспоминания скользили в памяти как замутненном стекле, что отделяет прошлое от настоящего. Взбежав по парадному крыльцу, он, как и прежде, в два счета преодолел лестничный пролет, скользя