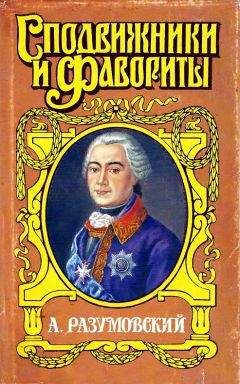Алексей считал, что достаточно знает Елизавету, и, как правило, ошибался. При всей своей лености и несобранности она могла с бала уехать к ранней заутрене в перовскую заштатную церковь, а после, проспавшись к обеду, мчаться в знакомой уже москвичам карете на званый ужин к губернатору.
— Ты ведь тоже, Алешенька, поедешь? — вопрошала лукаво, сидя в окружении горничных за туалетным столом, в любимом кресле, которое и было ее настоящим троном.
Знала ведь, что не посмеет отказаться, а спрашивала. В ответ следовало подать голос:
— Как скажете, ваше величество.
На людях — это на людях, со всем титулом. То же будет и у губернатора: ужин да карты, церемонные поклоны да танцы до упаду. Елизавета считалась лучшей в менуэте — кто мог с ней соперничать? Бывало, пять платьев за один бал меняла — потела, сердешная, от усердия, да и от полноты уже набегавшей. Непременно в соседней комнате горничные с запасными платьями дежурили, под единый цвет и фасон, так что смен-перемен никто и не замечал.
Алексей танцевать не любил — ему выпадало или выигрывать, или проигрывать. Ну и попутно напиваться. Будто дома этого мало!
Елизавета, натанцевавшись, тоже садилась за карты. И не забывала еще одну затею — пригласить на коронацию мать Розумиху. Возвращаясь под утро в Головинский дворец, как ни в чем не бывало предупреждала:
— Ты мне завтра, Алешенька, напомни, чтоб я матушке отписала. Как бы не запоздала!
Алексей под разными предлогами отнекивался, да и забывала вскоре Елизавета о своем намеренье. Как же он удивился, застав ее за письмом! Писала без секретаря, самолично, и строго наказала:
— Сыщи надежного фурьера. Будет ли другой повод с матерью твоей повидаться. Смекаешь?
Он смекал, конечно, и с ужасом думал, что будет дальше. Муж? Законный? Но ведь невеста-то — не хохлушка из Лемешек, да хоть и из Козельца. Кем он при ней будет?!
Привычная жизнь «в фаворе» круто ломалась. Елизавета не шутила. Стали понятны ее частые посещения Перова. Перешептыванья с услужливым батюшкой, бывшим ее же малороссийским крепостным. Да и личный духовник, протоиерей Федор Яковлевич Дубянский, стал наведываться в Перово. Был он из тех же хохлов, служил в церкви недалеко от Козельска, но вот вызван был, еще цесаревной, в Петербург, прижился и обжился. Он и внушил теперь простую мысль:
— Не царем при царице — мужем при жинке.
Алексей лукавил, что ничего не понимает, а сам еще раньше вез из Петербурга полковника Вишневского, которому вовсе не потребно было толкаться при коронации. Что касается истопника Василия Чулкова, то он и в Головинском дворце нес свою верную службу: когда сыро было, протапливал печи, а ночью возлежал пред дверями будуара. Через него мог перешагнуть только один человек — он, Алексей Разумовский, камергер и друг сердечный.
Значит, венчание-то — уже подоспело?!
Алексей призвал к себе обоих вместе, полковника Вишневского и истопника Чулкова. Они, конечно, догадывались о цели такого позднего приглашения, но виду не подавали. Он тоже не давал повода для преждевременных вопросов: всему свой черед. Хозяин-камергер приказал накрыть стол на троих — только на троих! — слуг отослал и под первые чары по-хохлацки, с прикидкой под простоту, рассказывал разные байки. Про жену да про тещу тоже.
— Ну, оженились-благословились. Забыли в спешке при том, что надо бы получить и благословение отца с матерью. После полуночи молодой муженек и вспомнил: «Отец-то с матерью как?..» Молода жена отвечает: «Батюшке недосуг, а матушке некогда». Гнев, естественно: как так?! А так, мол. Если не боишься, сами поедем к ним. Да чего откладывать? Закладай лошадей! Ладно, заложили. Едут. Куда? Кресты могильные да камни, камушки да опять крестики. Молод муж в настоящем гневе: «Мы куда приехали?!» А молода жена покойна, отвечает: «К отцу-матери». И — бух на сер-камень, лунно отсвечивающий! На нем имярек, раба Божия… имярек раб Божий…
Байка выходила не очень веселая. И полковник, и истопник смотрели на него не понимаючи. Алексей вспомнил старое:
— А ведь я когда-то спивал! Может, лучше выйдет?
Но вышло-то, после некоторого молчания, почти то же самое:
Соловейко, мала пташечка!
Полети в мою стороночку,
Понеси батькови поклоночку,
Нехай батько не журится,
А матуся не печалится…
Полковник Вишневский прослезился, был он здесь самый старый, а потому и вопросил:
— Алексей Григорьевич, для чего ты нас призвал?
Он понял, что надо говорить начистоту.
— Я прошу вас, уважаемые други, быть сватами моими… пред одной преславной женщиной по имени Елизавета… С полотенцами через плечо, со всеми этикетами. Готовы ли вы просьбу эту выполнить?
Полковник Вишневский стукнул серебряным донышком о столешницу:
— Как есть готов!
Истопник Чулков и того хлеще:
— Возрадуемся за женщину, которая сделала столь божеский выбор!
Алексей тряхнул непокрытой, без парика, головой:
— Возрадуемся вместе, други мои. Завтра поутру вы отправитесь в Перово со всем церемониалом… без всяких там свидетелей. Не ошибетесь адресом?
Вишневский не бывал в Перове, а Чулков ответил со всей ответственностью:
— Как можно ошибиться! Я там печи топил…
Он, конечно, проговорился, но Алексей сделал вид, что ничего такого не заметил.
— Я приеду к трем часам. С женщиной Елизаветой. Но прежде, поутру, вы сделаете ей предложение, она там сегодня заночует, а потом возвернется в Москву, чтоб вместе нам выехать… в Перово опять же. Время у нас обусловлено. Успеете ли с вашим поспешанием?
Дружный ответ:
— Как не успеть!..
— Поспешая, да чтоб не насмешить!..
Разошлись уже около четырех часов пополуночи. Алексей и поспал только маленько. Нужен был экипаж попроще да одежда без прикрас. Венчаться с невестой ехал не камергер Алексей Разумовский — просто добрый человек Алешка сын Григорьев, родом из бедных реестровых казаков.
К его удивлению, Елизавета возвратилась из Перова тоже довольно рано, к пополудню, — он видел ее роскошную парадную карету из окна своего флигеля. А в назначенный час с черного крыльца сошла совершенно другая женщина — небогатая местная помещица, неведомо как и оказавшаяся у царского дворца. Она скользнула в раскрытую дверцу экипажа и лишь здесь бессловесно улыбнулась. Что-то ломалось в ее душе, и Алексей не нарушал молчания. Он просто держал ее дрожавшую руку и чувствовал себя, право, конокрадом. Императрица ли самодержавная сидела рядом с ним в простой карете? Даже горничные — две преданные, молчаливые души, как выяснилось, остались в Перове. Переодевалась она, судя по всему, в своем будуаре, не без помощниц-советчиц. Ее хорошо снарядили под помещицу, у которой не больше сотни душ. Потаенно, скромно, опрятно. Золотистые, и прежде не знавшие пудры волосы были уложены под светло-зоревой кокошник, так что посторонним взглядом и не воспринимались. Да и кому здесь быть постороннему? Простой лазоревый сарафан, ниспадающий до пят, даже с неким подобием шлейфа, который некому было нести. Мало ли по какому случаю приехала в бедную сельскую церковь бедная же помещица, может, даже вдова, уже снявшая траур. Встречали ее две бессловесные горничные да протоиерей Дубянский, стоявший поодаль. Она отдала ему скромный поклон, хотя наверняка ночь-то в беседах с ним провела. Не задерживаясь, маленькая процессия прошла с паперти в церковь. В притворе их дожидались Вишневский и Чулков, тоже с поклоном пристроились позади. Но Алексей взял невесту под руку не раньше, чем кто-то накинул крюк на входную дверь.
До последнего седого волоска знакомый батюшка, ее же малороссийский крепостной, начал известный обряд венчания. Не в пример прошлым подобострастным дням, держался строго и независимо. Обряд венчания был для него высшей мерой служения Богу. Едва ли он и думал о том, кого венчает. Он представлял на брачную жизнь христородную рабу Божью Елизавету и раба же Божьего Алексея; больше ничего не было в мыслях простоватого хохлацкого батюшки. Протоиерей Дубянский пребывал поодаль, ни во что не вмешиваясь. Никто ведь не знал, что остаток сегодняшней ночи невеста проплакала у его плеча. «Как вести себя, отче, пред Божьим венцом на тридцать третьем-то году жизни и на десятом году истинного супружества?! Кто простит, кто покает меня, окаянную?!» Но протоиерей Дубянский был не только первостатейный священник — еще и отменный царедворец. Нынешняя невеста достохвально скромна и привержена Богу — как может Бог обойти ее своей благодатью? К положенному часу он сумел настроить ее на тихий и покорный лад. Когда надо, он мог быть и строгим, не боясь государевой кары. Невеста ценила в нем бескорыстие. Что он требовал для себя? Да ничего ровным счетом, разве сухарика. Положим, не одними же сухарями питался имперский духовник, но разве он вопрошал о большем? Невеста захолодавшей спиной, на которой еще грозным родимым батюшкой были обрезаны девичьи крылышки, чувствовала его строгое присутствие.