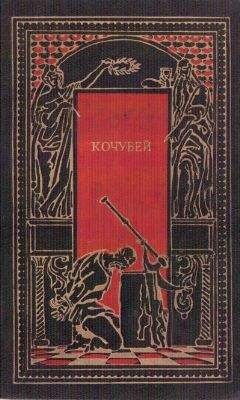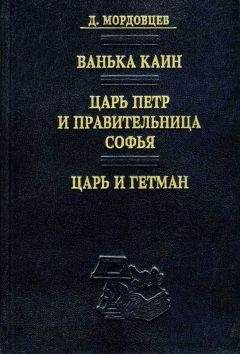И царь торопливо перелистывал письма. Ему пришло на мысль, что и он сегодня писал такое же любительное письмо к своему «другу сердешному Катеринушке», в ответ на её письмо, в котором она, «мудер-матка оповещала» своего «Петрушеньку», что дочки его—шишечки Катюша да Аннушка — во здравии обретаются, а Катюша-де второй зубок выдувает, слюнтявочки поминутно менять приходится...»
— А ну-ну, старый... «Моё серденько! — читает царь. — Тяжко более на тое, що сам не могу с вашею милостью обширне ноговорити, що за одраду ваша милость в теперешнем фрасунку» — печали, сиречь, польское слово (пояснил Пётр) — «фрасунку учините. Чого ваше милость по мне потребуешь, скажи всё сiе девце. В отставку, коли они, проклятiи твои» — это родители, полагать должно — «тебе цураются, иди в монастырь, а я знатиму, що на той час з вашею милостью чинити. Чого потреба и повторе пишу, ознайми мине ваша милость!»
При слове «монастырь» глаза Ягужинского несколько оживились, а Пётр покачал головой.
— Бедная девка! Невесело, полагаю, жилось ей у родителей... А ты её видел, Павел? — вдруг обратился он к Ягужинскому. — Помнишь, с бумагами посылай был от меня при Кочубее?
— Помню, государь, — нерешительно отвечал тот.
— Так видал девку?
— Видал, государь.
— Какова она видимостью и персоною показалась тебе?
— Она, государь, чернокоса, лицом бела, глаза такоже черны, вся в цветах была.
— А персоною какова?
— Такой, государь, и не видывал.
— Да, по отцу судя... — И царь задумчиво перелистывал лоскутки бумаги, на которых пестрели признания Мазепы в любви и его сожаления. — Жаль старика... «Моя сердечне коханая (почти про себя читал он) тяжко зафрасовалемся, почувши, же тая катувка» — палачка, то есть мать, надо думать — «не перестаёт вашу милость мучити, яко и вчора тое учинила. Я сам не знаю, що з нею, гадиною, чинити. То моя беда, що з вашею милостью слушного не мам часу о всём переговорит Больш од жалю не могу писати, только тое яко ж кольвек станеться, я, поки жив буду, тебе сердечне любити и зычити всего добра не перестану, и повторе пишу, не перестану, на злость моим и твоим ворогам!»
За дверями послышались шаги и шорох бумаги. Царь быстро оглянулся. На пороге показался прежде всего большой лысый лоб со сползшим на маковку париком, а потом и целая фигура в тёмно-коричневом камзоле с огромными медными пуговицами, в башмаках с такими же огромными пряжками, словно от конской сбруи, и на козьих тонких икрах, обтянутых красными чулками. Бритое лицо с красноватыми подкожными жилками смотрело обрюзгло; на нём горбоватый нос, словно кадык, поместившийся выше тонкогубого рта, и такой же горбоватый кадык ниже подбородка с висячими, как у индюка, складками; карие с желтизной, зоркие и юркие глаза, точно тараканы, постоянно прятавшиеся в щели, — всё это глядело непривлекательно и не возбуждало к себе ни нежного чувства, ни особенного доверия. Пришедший, держа в левой руке связку бумаг, ещё на пороге низко поклонился, опустив правую руку к башмакам, как бы стараясь достать пальцами пол, как это делают перед иконой.
— А, Гаврило Иваныч... в красных чулках; из застенка, значит, — сказал царь, быстро окинув взором взошедшего. — В красненьких чулочках, у князя-кесаря Ромодановского перенял, чтобы кровушки не видно было...
— Истину изволит молвить великий государь, — отвечал вошедший (это был Головкин), — дабы кровушки в нашем-то заплечном мастерстве не видать было.
— Ну что, винится доноситель?
— Винится, государь, сразу повинился, как только дыбу спозрел.
— А! Что ж открывает?
— Сказывает, государь: писал-де на гетмана ложно, изблевом, по злобе, а мыслил-де, что великий государь без распросу веру его известным речам даст... В таком-то великом государевом деле да без распросу, без сыску!.. Я и искал, и доискался правды; по злобе-де ложь затеял, облыжно писал.
— А Искра?
— Искра, государь, на него же всё дело, сматывает, на этот самый глубок нитку мотает: его вся эта, Кочубеева, известная затея, он, Кочубей, и Искру подучал... Обнадёживал его; государь-де милостию за сие пожалует... Я Искре, государь, по твоему государеву указу, велел дать десять, так и под кнутом утвердился на первых речах; ничего-де изменного за гетманом не ведает, а слышал-де от Кочубея. А как Кочубея стали раздевать...
Ягужинский при этих словах Головкина вздрогнул.
— Что, Павел? — спросил царь, заметив эту дрожь в своём любимце.
— Знобит как будто, государь; от окошка должно быть.
— Ну? — обратился царь к Головкину. — Раздел-таки и Кочубея?
— Раздел, государь, а он из-за пазухи и вынимает вот сие рукописание и говорит: покажь-де оное великому государю, он-де помилует горестью удручённого отца о погибели дщери своея.
Ягужинский опять вздрогнул и прислонился к стене: он, казалось, готов был упасть. Головкин с низким поклоном подал царю пакет. Государь молча разорвал конверт, стал пробегать глазами написанное в бумаге.
— Да, так и есть; всё из-за дочери, — сказал он, наконец. — Пишет, якобы гетман обольщал её. «На день святого Николая, пишет, присылал Мазепа Демьянка, приказуючи, жебы з ним виделася дочка моя, а объявил тое, же дирка в огороде межи частоколом против двора полковницкого есть проломана, до которой дирки абы конечне вечером пришла для якогось разговору. Якая присылка частократне бывала, яким способом крайнiи нам учинилися оболга и поруганie и смертельное безчестье...» А всё же это не измена, — пояснил царь.
— Не измена, великий государь, — подтверждал Головкин.
— Посмотрим дальше... «В день святаго Савы, — читал Пётр, — прислал его милость гетман з Бахмача рыб свежих чрез Демьянка, а за тоею оказiею тот Демьянко говорил Мотроне на самоте, же усильно пан жадает, абы для узреняся к ему прибыла, а обецует 3.000 червонных золотых. А потом того ж дня, поворачпваючися з Бахмача, прислал того же Демьянка, приказавши наговаривати Мотрону, же пан 10.000 червонных золотых обецует дати, абы тильки так учинила, а коли в том она отговоровалася, тогда просил тот хлопец словом пана своего, щоб часть волос своих урезала и послала пану на жаданье его...» Ишь, старый! — улыбнулся царь. — Волоски его понадобились...
— Как же, государь, нельзя без этого: всё же легше, — шутил и Головкин, делая скверные глаза.
Один Ягужинский стоял молча, и как он в постоянной близости царя не вымуштровал своё лицо, оно всё-таки выдавало его глубокую тревогу.
— Ах, старый, старый, — качал головою Пётр, читая показание Кочубея, — словно паренёк молоденький... «Присылают!, — читал он дальше, — гетман брав сорочку Мотроны з тела з потом килько раз, до себе. Брав и памисто з шiи килько раз, а для чого, тое его праведная совисть знает...»
— А сам, поди, и чулочки, и подвязочку у своей-то Любушки бирывал, — скверно, плотоядно хихикал Головкин, семеня красными икрами, словно гусь около царя.
— Да, да, — подтверждал царь, — а всё я никакой измены тут не нахожу... Разве в письмах самого Мазепы к оной девице: да я их чел и ничего не вычел.
И царь снова пододвинул к себе письма Мазепы. Ягужинский лихорадочно следил за ним.
— Вот большое письмо, нет ли тут чего?.. «Моя сердечие каханая, наймильшая, наилюбезнейшая, Мотроненько! Вперёд смерти на себе сподевася, неж такой к сердцу вашем одмены. Спомни тилько на свои слова, спомни на свою присягу, спомни на свои рученьки, которые мине не поеднокрот давала, же мене, хоч будет за мною, хоч не будеш, до смерти любити обецала. Спомни на остаток любезную нашу беседу, коли есь бувала у мене в покою. Припомни тилько слова свои, под клятвою мне данные на тот час, коли выходила есь зо покою мурованого од мене, коли далем тобе перстень дiаментовый, над который найлепшого, найдорогшого у себе не маю, же хоч сяк, хоч так будет, а любовь межи нами не одменится. Нехай Бог неправдивого карает, а я, хоч любишь, хоч не любишь мене, до смерти тебе подлуг слова свого любити и сердечне кохати не перестану на злость моим ворогам. Прошу, и вельце, моё серденько, яким-кольвек способом обачься зо мною, що маю з вашею милостью далей чинити, бо юж больш не буду ворогам своим терпети, конечно, одомщенiе учинию, а якое, сама бачишь. Счастливили мои письма, що в рученьках твоих бывают, нежели мои бедные очи, що тебе не оглядают!»
Царь остановился. Рука его машинально перебирала бумаги, тогда как в голове, видимо, созревала новая мысль, заставляя нервно подёргиваться мускулы на его подвижном лице и зажигая новые искры в глазах. И Головкин, и Ягужинский, напряжённо следя за этой работой мысли, оба ожидали чего-то, но только не с одинаковыми чувствами.
— Понеже... — начал было царь, но потом, как бы опомнившись, продолжал, — вот что, Гаврило Иванович, кончай ты с этим розыском скорее, я вижу, что тут измена верного гетмана примазана безлепично... Жаль мне и Кочубея, а наипаче жаль Мазепу... Каково отнять у старика последнюю радость! А ежели она, девка-то, любит его, горемычная? Каково ей? А она любит его, сие несумнительно. Так быть по сему, отошли ты Кочубея, Искру и прочих доносителей к Мазепе на его волю; хочет — казнит, хочет — помилует. А на этой красавице я сам его женю, сам и сватом буду и посаженным отцом. Я хочу, чтобы Россия имела сына от Мазепы: доблестный и верный род Мазепы не должен угаснуть, это моя воля!