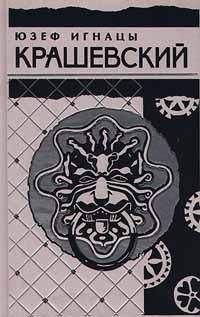– Есть французская пословица, – сказал Клемент, – очень старая, но мудрая:
A bien servir et loyal etre, De serviteur on devient maitre.
Теодор равнодушно пожал плечами.
Он стоял спиною к дверям, когда в коридоре, отделявшем комнаты доктора от апартаментов гетмана, послышались шаги; француз, покраснев, обнял Паклевского и начал что-то быстро болтать, представляясь очень веселым и стараясь расшевелить гостя. В это время двери открылись; Теодор оглянулся, увидел входившего гетмана в халате и укоризненно взглянул на доктора.
Француз подошел к гостю – поздороваться. Гетман, привыкший в обществе носить маску, без труда разыграл удивление при виде гостя, встреченного им у доктора. Он вошел к доктору, как будто по неотложному делу и, заметив Паклевского, очень любезно улыбнулся ему.
– А! Пан Паклевский! Очень приятно встретиться!
Смутившийся Тодя поклонился, догадываясь, что попал в ловушку, расставленную для него доктором, – и это возмутило его.
– Ну, я не буду мешать! – сказал он, взявшись за шапку и собираясь уходить.
– Вы нам нисколько не мешаете! – удерживая его, сказал Браницкий. –Для меня лично очень приятна встреча с вами, сударь. Я слышал, что вы находитесь при дворе князя-канцлера и пользуетесь там большим успехом!..
– Я уже не состою при дворе канцлера, – отвечал Теодор, – и не могу похвалиться никакими успехами…
– Но, однако же! – возразил гетман.
– Я ничего об этом не знаю, – сказал Теодор, как бы избегая разговора.
Гетман стал так, чтобы помешать ему уйти. Положение было неприятное, яркая краска выступила на лице юноши, но гетман и Клемент, хотя и видели его смущение, казалось, были готовы вести борьбу до конца. Особенно гетман, которому не раз случалось преодолевать упорство равнодушных и не расположенных к нему, сильно надеялся, что ему удастся уговорить молодого Паклевского.
– Князь-канцлер теряет в вас очень нужного помощника, – заговорил Браницкий, – молодую силу, которой не может заменить даже старая опытность. Что же произошло между вами, сударь, и вашим принципалом?
Этот вопрос, видимо, не понравился Теодору, который взглянул на доктора с упреком на то, что тот поставил его в неприятное положение.
– Сущие пустяки, не стоит рассказывать, – коротко отвечал Паклевский. Гетман подошел к нему и с большой ласковостью во взгляде и нежностью в голосе сказал ему:
– Я бы хотел, чтобы вы верили в мое расположение к вам и готовность прийти на помощь: может быть, я и теперь мог бы быть вам полезен?!
– Я бесконечно благодарен вам, – коротко поклонившись, отвечал Теодор, – но я не хочу уж поступать ни на какую службу, поеду лучше в деревню…
– Не следует так огорчаться из-за пустяков, – прервал его Браницкий, – и жаль, если прекрасный талант, который уже заставил говорить о себе, погребет себя в деревне.
– Я не чувствую в себе никаких талантов, – пробормотал Теодор, поглядывая на двери, как будто только выжидая момент, чтобы удрать отсюда. – Вы, сударь, были в доброй школе, где можно было многому научиться, – сказал Браницкий. – А в моей канцелярии Бек как раз нуждается в помощнике, который со временем мог бы и совсем его заменить.
Он взглянул на него вопросительно; Теодор молчал.
Из передней кто-то позвал доктора Клемента, который торопливо вышел. Они остались одни. Гетман, все еще загораживая собою двери, не терял уверенности в себе.
– Ну, что же вы мне ответите, сударь, на мое предложение? – мягко сказал гетман.
– Я вам бесконечно благодарен, но я твердо решил вернуться в деревню. – В деревне, в Борку, вам, сударь, нечего делать.
– Я обязан заботиться о матери.
Гетман покачал головой.
– Пан Теодор, – сказал он голосом, в который старался вложить как можно больше чувства. – Послушайте меня; вы знаете, что я так желаю вам добра, как, может быть, никто на свете… Если у вас есть предубеждения, отбросьте их, примите мое покровительство: а я ручаюсь за блестящее будущее для вас, сударь. У вас есть все, что для этого нужно: внешность, воспитание, талант и, что тоже не мешает, протекция, которую я вам охотно окажу. Ну, можно ли отказываться от такого предложения?
Паклевский поклонился, опустив глаза и не зная, что сказать.
– Прошу вас быть со мной откровенным, – прибавил Браницкий. – Я понимаю, что пребывание в Волчине должно было оказать влияние на вашу юную, впечатлительную натуру. Вы, верно, наслушались там про меня всяких ужасов: но почему бы вам не захотеть самому познакомиться со мной, узнать этого оклеветанного человека и иметь о нем собственное суждение? Вы можете остаться при дворе, не принимая на себя никаких обязательств. Прошу вас об этом.
– Если бы я не имел никаких других причин для отказа от вашего предложения, – сказал Теодор, – то было бы достаточно и того, что я, перейдя к вам прямо от канцлера, мог бы показаться наемником, который предал его тайны за кусок хлеба. Мне дорога моя честь!
– В этом вы, сударь, совершенно правы, – живо подхватил гетман. – Я понимаю тонкость ваших чувств, но, спустя некоторое время…
Теодор приходил все в большее волнение, еще не решаясь высказаться прямо. Но проницательный взгляд, который он бросил на гетмана, смутил старика.
– Говорите, сударь, без оговорок, – сказал он, – что вы имеете против меня? Молодой человек, только что вступивший в свет, не имеющий ни денег, ни протекции, не отказывается от такого предложения, которое я вам делаю, не имея на то серьезных причин. Я желаю, чтобы вы высказались определенно. Я требую этого. Если бы не ваша молодость, сударь, я чувствовал бы себя оскорбленным.
Паклевский, припертый к стене, не мог больше сдерживаться.
– В свое оправдание, – не без гордости отвечал он, – я могу сказать только то, что я только повинуюсь приказаниям моих отца и матери. Я не знаю, что руководило ими, но и отец, и мать требовали от меня, чтобы я не имел никаких сношений с вашим двором и никогда не пользовался милостями пана гетмана.
– Ваша мать, – порывисто заговорил гетман, – особа, к которой я питаю глубокое уважение, но я должен сказать, хотя бы и перед сыном ее, что она человек страстный, вспыльчивый, неуравновешенный и несправедливый!
– Пан гетман – это моя мать! – прервал Теодор.
Браницкий замолчал; он был страшно возбужден и весь дрожал; взглянув на Паклевского затуманенными от слез глазами, он воскликнул:
– Я один имею право говорить это, потому что я…
Тут он подошел к Теодору и, раскрыв объятия, произнес с глубоким чувством:
– Потому что я – твой отец!!
Паклевский остолбенел от удивления; ему казалось, что эти безумные слова свалят его с ног, как удар грома. Гетман, видимо рассчитывал, что юноша, ошеломленный этим признанием, бросится к его ногам. Вся кровь бросилась в голову Паклевского; он вздрогнул и попятился от гетмана.
– Это клевета, – с возмущением крикнул он, – мой отец тот, кто дал мне свое имя, кто вынянчил меня на своих руках и был мужем моей матери…
Это клевета, и после такого страшного оскорбления, которое вы бросили той, которая мне дороже всего на свете, мне больше нечего здесь делать, и я не чувствую надобности сохранять с вами какие-либо отношения… Только ваши седые волосы, пан гетман, охраняют вас от мести за те слова, которыми вы меня ударили по лицу…
Говоря это, Теодор бросился к сеням, но Браницкий закрыл их собою и не пускал его.
– Делай, что хочешь, подними на меня руку, если посмеешь, – заговорил он с лихорадочным оживлением, – но я тебя так не отпущу… То, что я тебе сказал, не клевета. Твоя мать чиста и невинна; виноват один только я, но я всегда хотел и теперь хочу загладить свою вину.
Теодор стоял, как окаменелый.
– Я не могу судить о поступках моей матери, – сказал он. – Что же касается меня, пан гетман, то я никогда не признаю вас своим отцом, хотя бы вы и желали признать во мне своего сына. Ваши благодеяния будут позором для меня, я не хочу их и понимаю теперь, почему моя бедная мать запретила мне приближаться к вам…
Браницкий стоял, опершись о двери, которые давно уже старался открыть Клемент, услышавший повышенные голоса и недоумевавший, кто напирает на двери с той стороны. Когда он с усилием толкнул их, гетман, ослабевший от волнения, отодвинулся, и доктору удалось приоткрыть одну половинку дверей; Паклевский, заметив это, бросился к ней и, оттолкнув Клемента, как безумный, выбежал вон.
Это произошло так быстро, что гетман, который непременно желал удержать беглеца, так и остался с вытянутой рукой, зашатался, оглянулся вокруг, ища взглядом диванчик, и с изменившимся лицом упал на него. Француз подбежал к нему на помощь, опасаясь какого-нибудь припадка.
Старец сидел безмолвно, ослабев от волнения и огорчения.
Они не обменялись ни одним словом. Бегство Тоди открыло Клементу глаза на то, что произошло за короткое время его отсутствия; здесь разыгралась в нескольких словах одна из самых страшных драм, какие только случаются в жизни человека.