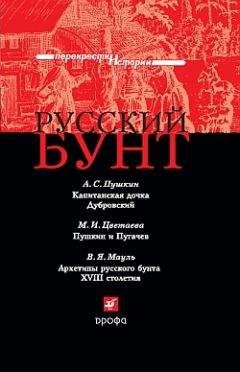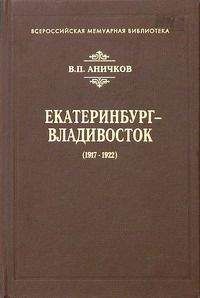Рассмотрим всех персонажей «Капитанской дочки». Отец и мать – как им быть полагается (батюшка, матушка...), слуга Савельич – как ему быть полагается, игрок Зурин, мелкий завистник и доносчик Швабрин, заводной немецкий генерал, – комендант Миронов, тип почти комический, если бы не пришлось ему на наших глазах с честью умереть... Маша – пус-тое место всякой первой любви, Екатерина – пустое место всякой авторской нелюбви...
Ни одной крупной фигуры Пушкин Пугачеву не противопоставил (а мог бы: поручика Державина, чуть не погибшего от пугачевского дротика; Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева). В лучшем случае, другие – хорошие люди. Но когда – кого в литературе спасала «хорошесть» и кто когда противостоял чаре силы и силе чары? (Себе в опровержение: однажды спасла и вознесла: отца Савелия, в «Соборянах». Себе же – в подтверждение: но это больше чем литература и больше чем хорошесть, и есть сила большая чары – святость.)
В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо – Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев – мы есьмы.
Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта – чаре, поэта – врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гете – Гетц, у Шиллера – Карл Моор, у Пушкина – Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная, и, как вы ее еще называете, проза – чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только т е своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времен лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) – в недрах лирического хаоса, – либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял и вне себя и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину – отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гетц, и Лара, и Мцыри, и собственный пушкинский Алеко – идеи, в лучшем случае – видения, Пугачев – живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик – самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцом всех романтических: Дон-Кихотом.
Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане: потому и семилетним детям давали, что думали – классическое. А классическое оказалось – магическое, и дети поняли, только дети одни и поняли, ибо нет ребенка, в Вожатого не влюбленного.
В «классиков» не влюбляются.
* * *
Ко всей «Капитанской дочке» ретроспективный эпиграф:
...Странные есть мужики –
Вот он, с дорожной котомкой,
Путь оглашает лесной
Песнью протяжной, негромкой,
И озорной, озорной...
...В славную нашу столицу
Входит – господь упаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси...
Пугачев царицы необозримой Руси не обворожил, а на нее в другую и славнейшую нашу столицу – пошел, в столицу не вошел, – и столицы разные – и царицы разные – но мужик все тот же. И чара та же... И так же поддался сто лет спустя этой чаре – поэт.
* * *
Все встречи Гринева с Пугачевым – ряд живых картин, нам в живое мясо и души вожженных. Ряд живых картин, освещенных не магнием, а молнией! Не магнием, а магией. О, до чего эта классическая книга – магическая. До чего – гипнотическая (ибо весь Пугачев нам, вопреки нашему разуму и совести, Пушкиным – внушен: не хотим – а видим, не хотим – а любим) – до чего сонная, сновиденная. Все встречи Гринева с Пугачевым – из все той же области его сна о губящем и любящем мужике. Сон – продленный и осуществленный. Оттого, может быть, мы так Пугачеву и предаемся, что это – сон, которому нельзя противиться, сон, то есть мы в полной неволе и на полной свободе сна. Комендант, Василиса Егоровна, Швабрин, Екатерина – все это белый день, и мы, читая, пребываем в здравом рассудке и твердой памяти. Но только на сцену Пугачев – кончено: черная ночь.
Ни героическому коменданту, ни его любящей Василисе Егоровне, ни гриневскому роману, никому и ничему в нас Пугачева не одолеть. Пушкин на нас Пугачева... навел, как наводят сон, горячку, чару...
На этом слове разбор Пугачева «Капитанской дочки» – кончим.
Ибо есть другой Пугачев – Пугачев «Истории пугачевского бунта». Пугачев «Капитанской дочки» и Пугачев «Истории пугачевского бунта».
Казалось бы одно – раз одной рукой писаны. Нет, не одной. Пугачева «Капитанской дочки» писал поэт, Пугачева «Истории пугачевского бунта» – прозаик. Поэтому и не получился один Пугачев.
Как Пугачевым «Капитанской дочки» нельзя не зачароваться – так от Пугачева пугачевского бунта нельзя не отвратиться.
Первый – сплошная благодарность и благородство, на фоне собственных зверств постоянная и непременная победа добра. Весь Пугачев «Капитанской дочки» взят и дан в исключительном для Пугачева случае – добра, в исключительном – любви. Всех-де казню, а тебя м илу ю. Причем это ты, по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а меня помиловал, обобрал, а меня пожаловал, и т.д.) Пугачев нам – в лице Гринева – все простил. Поэтому мы ему – все прощаем.
Что у нас остается от «Капитанской дочки»? Его – пощада. Казни, грабежи, пожары? Точно Пугачев и черным-то дан только для того, чтобы лучше, чище дать его – белым.
Предположим – да так оно со всеми нами и было – что читатель «Капитанскую дочку» прочел – первой. Что он ждет от «Истории пугачевского бунта»? Такого же Пугачева, еще такого же Пугачева, то есть его доброты, широты, пощады, буйств – и своей любви.
А вот что он с первых страниц повествования и пугачевщины – получает.
«...Между тем за крепостью уже ставили виселицу, перед ней сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова (коменданта крепости. – М. Ц.), обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный[20] копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить».
(Велел казнить и Миронова, но у того глаз не висел на щеке. Тошнотворность деталей.)
День спустя Пугачев взял очередную крепость Татищеву с комендантом Елагиным.
«С Елагина, человека тучного, содрали кожу: злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны».
(В «Капитанской дочке» ни с кого кожу не сдирали и ничьим салом своих ран не мазали. Ибо Пушкин знал, что от такого мазанья – на его героя – стошнило бы.) Дальше, в строку:
«Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее семилетнего брата».
Пощада – малая, и поступок – чисто злодейский, да и злодейство – житейское: завожделев – помиловал, на свою потребу помиловал. И мгновенный рипост: наш Пугачев так бы не поступил, наш Пугачев, влюбившись, отпустил бы на все четыре стороны – руки не коснувшись.
...Именно не полюбив, а завожделев, ибо вдову майора Веловского, которую не завожделел, тут же велел удавить.
Но есть этому эпизоду с Харловой (по отцу Елагиной) продолжение – и окончание.
Несколько страниц – не знаю, недель или месяцев – спустя, происходит следующее:
«Молодая Харлова имела несчастие привязать к себе Самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ – похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, долго оставались в том же положении».
Все чары в сторону. Мазать свои раны чужим салом, расстреливать семилетнего ребенка, который, истекая кровью, ползет к сестре, – художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает. Пушкин, художеством своим, был обречен на другого Пугачева.
Таков Пугачев в любви. Об этой Харловой Пушкин, пиша «Капитанскую дочку», помнил, ибо (письмо Марьи Ивановны Гриневу): «Он (Швабрин) обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой...»
Что то же, Пушкин в «Капитанской дочке» не уточняет, давая предполагать читателю только начало харловской судьбы. Оживлять те кусты ему здесь слишком невыгодно.
И непосредственно, строка в строку, до эпизода с Харловой:
«Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удавили его и бросили с камнем на шее в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику. Пугачев, молча, махнул рукой».