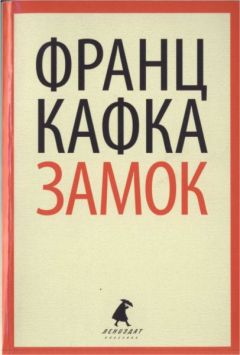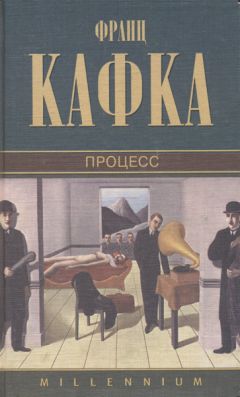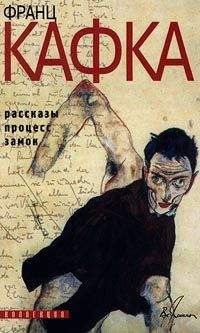есть хоть что-нибудь неизвестное Брехту?
– Мартин, довольно! Говорите, Альфред…
– Ну так вот, для Брехта единственной темой произведений у Кафки является… держитесь крепче, чтобы не упасть… не что иное, как удивление.
– Удивление?
– Да, оно самое! Удивление героя перед лицом различных ситуаций, перед лицом многообразия приказов. Ведь что, как не удивление, выказывает К. в ответ на самые абсурдные распоряжения? В то же время в понимании Брехта такая реакция представляет собой лишь первый этап отказа подчиняться, лишь фундамент бунта, ожидающегося в самом ближайшем будущем, и именно поэтому он считает Кафку – сегодня еще удивляющегося, но завтра уже мятежного – по большей части большевистским писателем.
– Достоинство этих рассуждений в том, что с ними все предельно ясно. Дорогой Альфред, а не могли бы вы также сказать пару слов о размышлениях Адорно?
– С удовольствием.
Гроссман объяснил, что Адорно не считал Кафку ни пророком той или иной религии, ни воспевателем народа, тем более еврейского. Своим величием и актуальностью тот был обязан самой природе своих творений и строгости стиля, которые позволяли ему, по выражению Адорно, превосходить «омертвение языка».
Слушая, как Гроссман объяснял концепцию возраста мира, рассуждал об экстраполяции настоящего, об архаичном и диалектическом смысле, Роберт думал о том, сможет ли он, когда его спросят, столь же ясно сформулировать свою единственную гипотезу о друге и его творческом наследии. Его ведь пригласили сюда в качестве Великого Свидетеля, человека, прикоснувшегося к тунике Христа.
– Так или иначе, – сказал Мартин Блюмфельд, когда Гроссман покончил с Адорно, – но гестапо позволяет нашему журналу выходить лишь при том условии, что наши статьи будут ограничиваться еврейской критикой еврейских же произведений. Но какое произведение, заслуживающее называться «еврейским», написал Кафка? Насколько мне известно, в его романах ни разу не упоминается не только слово «еврей», но даже слово «Бог».
– Мне кажется, – ответил Велч, – что в прочитанном вам предисловии я частично уже ответил на этот вопрос, но раз вы так настаиваете, мне не составит труда развить свою мысль.
– Окажите любезность.
– Для начала я приведу фразу, которая, как представляется, красной строкой проходит через весь наш журнал: «Вы не из Замка, не из деревни, вы вообще ничто. Хотя, к сожалению, что-то собой все же представляете, вы чужак…» Разве не мы сами служим ее зримым воплощением с незапамятных времен? Затем сошлюсь на того же Вальтера Беньямина, вернувшись к мысли, которую он уже неоднократно развивал. Он объясняет, что свои романы Кафка писал, демонстрируя к сочинительству то же отношение, какое связывает Аггаду и Галаху в иудаизме. Позвольте мне прояснить этот момент… Как наверняка известно большинству присутствующих, Аггада представляет собой сборник историй и легенд, почерпнутых из раввинской литературы. Их предназначение сводится единственно к тому, чтобы объяснять иудейскую доктрину, то есть Галаху. И подобно многим Аггадам, которые можно найти в Талмуде, включая Пасхальную, самую известную из них, романы Кафки строятся на туманных, запутанных историях, утопающих в бесконечных описаниях, по всей видимости с тем, чтобы их не отождествляли с Галахой, то есть с заповедями доктрины. Беньямин придумал великолепную формулировку: «Подобно женщине на сносях, эти произведения носят под сердцем мораль, но никогда не производят ее на свет». Кроме того, Вальтер Беньямин полагает, что тема замка содержится в одной из историй Талмуда, от описания которой я в данной ситуации вас избавлю.
– Что-то сомневаюсь я, что молодчики из СС способны уловить тонкие различия между Галахой и Аггадой… Но что же тогда получается – Кафка уже не марксист, а каббалист?
– Мартин, я лишь привожу рассуждения Вальтера Беньямина, и не более того! Но… блуждания К., ставшего мишенью для ненависти окружающих, вам ничего не напоминают? Разве К., этот чужак, стучащийся в дверь, требующий для себя элементарных прав, но в ответ лишь сталкивающийся с презрением и насилием, этим вечером не находится среди нас?
– Может быть, может быть…
– А жуткое чувство вины, проглядывающее в поведении Карла Россмана из романа «Америка», заставляющее Йозефа К. смириться с вынесенным ему вердиктом, а герою «Приговора» броситься с моста, случайно, не перекликается с виной евреев, которой нам все уши прожужжали?
– Еще как!
– Самоирония, так присущая героям Кафки, головокружительный юмор, смех перед лицом варварства вам ни о чем не говорит?
– Несмотря на мои корни, еврейский юмор точно не мой конек, и вы знаете это ничуть не хуже меня.
– Знаю, Мартин, знаю… Что же касается вас, мой дорогой Клопшток, то не могли бы вы, водя личное знакомство с Кафкой, подтвердить нам, что в последние годы жизни он мечтал уехать в Палестину?
– Да, я действительно это подтверждаю, – ответил Роберт.
– Стало быть, он был такой же сионист, как мы?
– Ну зачем же как вы, это совсем не обязательно. Хотя он и правда так себя называл. Но на вопрос о том, переехал бы он в Палестину, если бы ему это позволило здоровье, у меня ответа нет. Однако постоянно об этом говорил, что правда, то правда, неизменно меня удивляя. Делился со мной своей странной мечтой открыть вместе с Дорой в Тель-Авиве ресторан. Вместе с тем мне кажется, что глубоко в душе земля сынов Израилевых была грезой еще более далекой, чем обетованная земля, грезой того же порядка, что литературный континент, недостижимый горизонт или перспектива другой жизни, свободной от любых ограничений. Эта поездка привела бы его в порядок, придала видимость нормальной жизни, гарантированно помогла стать простым смертным, сделала его членом большой семьи и позволила прочувствовать принадлежность к народу. Но позволю себе также напомнить, что Кафка, вполне естественно, не чувствовал себя на своем месте среди гоев, хотя если по правде, то и среди иудеев, как и в синагоге, куда его в детстве водил отец и где он, ко всему прочему, прошел обряд бар-мицва. Да, он по-настоящему боготворил этих ревностных ортодоксальных иудеев-хасидов, восхищаясь их искренностью, радостью и аутентичностью. Но строго между нами, вы сами можете представить, чтобы Франц вел бухгалтерию ресторана, а Дора заправляла на кухне?.. Лично я не верю, что путешествие через Средиземное море сделало бы из него другого человека. Он мог жить только одиночкой, чужаком по отношению к любому окружению, в том числе и еврейскому. Да и потом, мне не кажется, что Кафка смог бы приспособиться к миру, объятому войной, ибо в нем не было ровным счетом ничего от воителя.
– Вы намекаете, что он был слабаком?
– Никоим образом, нет! Просто его не покидали сомнения, которые можно по праву считать самой могущественной формой человеческого разума. Как бы там ни было, но Франц