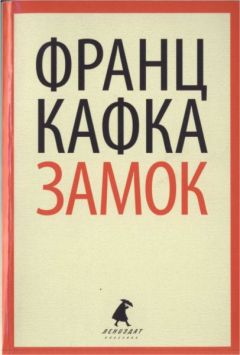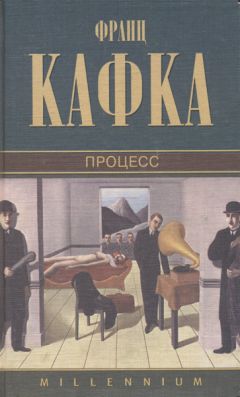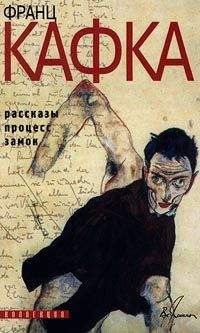не отвечал канонам нового человека, которого так стремится создать сионизм, – не сомневающегося в своих правах и лишенного слабости, так присущей представителям еврейской диаспоры. А если уж говорить о его хрупкости, хотя некоторым так и хочется назвать ее бессилием, то она, пожалуй, представляла собой лишь реакцию на непосильный, всепоглощающий гнет отца. Средством спасти собственную шкуру.
– Благодарю вас, Роберт… Раз уж мы об этом заговорили, то, может, вы, Ида, просветите нас, представлял ли Кафка интерес с точки зрения психоанализа? Мне кажется, в этом отношении в любом случае есть о чем поразмышлять. Вы ведь работали врачом в психиатрической клинике, и я очень сожалею, что это, увы, было в прошлом.
Молодая женщина встала. В самом начале своей речи она бормотала и постоянно запиналась, пребывая в плену эмоций, накрывших ее мгновение назад. Ее слова едва можно было разобрать. Но уже совсем скоро от смущения не осталось и следа, а в разговоре появилась уверенность. Она оговорилась, что не каждое творение искусства можно в полной мере расшифровать и понять с точки зрения психоанализа. Литературное произведение не поддается сколь-нибудь обобщающему толкованию, ибо искусство все равно хранит свои секреты. Потом Ида перешла к чувству вины, которое, видимо, преследовало Кафку, назвав его хрестоматийным случаем. Оно и правда поселилось в его душе из-за отца, подавлявшего его всей своей глыбой, всем весом своей любви, своей злобы, своего прошлого. Отец действительно подавлял сына, но его также подавляла Прага, работа в страховой компании, сначала иудаизм, а потом и борьба с ним, родной для него германский язык, сама идея жениться, в той же степени, что холостяцкая жизнь, не говоря уже об ипохондрии и болезни. Одна за другой его подавляли женщины, казавшиеся ему одним из шаблонов мира, призванного мешать ему реализовываться и быть самим собой – писателем и глашатаем чистой мысли. Не зря в его произведениях они порой весьма злокозненны. Кафка жил под этим гнетом, нередко воображаемым, подавлявшим все сферы его внутренней жизни. Но и сочинительство тоже внушало ему чувство вины.
Она немного помолчала, о чем-то задумавшись, потом продолжила:
– Фрейд говорит о противоположном смысле, скрытом в простых словах. Незамысловатый, лишенный аффектации литературный стиль Кафки, как и язык служащих страховых компаний, представляет собой чередование простых слов. Слов и фраз, скрывающих в себе двойной смысл. Этот двойной смысл, по сути представляющий собой другое название абсурда, наделяет текст юмором – юмором черным, который проходит через все его произведения. Но в первую очередь вселяет в душу читателя неизбывный страх. Своим великолепием книги Кафки обязаны его строгому, лишенному всякой мишуры стилю.
Она умолкла, будто слишком заговорилась, и села на место.
– Благодарю вас, Ида, – произнес Велч, – вы, как всегда, сказали просто блестяще. Ну что же, теперь нам осталось в последний раз послушать нашего гостя. Мой дорогой Роберт, вы можете сделать какой-то вывод, опираясь на дружбу с Кафкой? Может, вам есть что добавить? Что вам больше всего запомнилось из знакомства с этим человеком?
Роберт встал и с сомнением в голосе стал рассказывать о том, что извлек из этих юношеских товарищеских отношений. Объяснил, что судьба близко свела его с великим творцом, рядом с которым он долго надеялся проникнуть в тайну созидания. Но она, как водится, так и осталась неразгаданной. Вместе с тем за это время он, видимо, смог понять, что Кафка писал под диктовку – не какой-то там высшей силы, а собственной внутренней энергии, сродни побуждению или импульсу. Он сочинял будто по принуждению, каким бы ласковым оно ни было, по мимолетному велению не тревоги, но опьянения, скорее всего вызванного чистым листом перед ним. Стоило ему взять в руки перо, как он превращался в совершенно другого человека, не имеющего ничего общего ни со страховым агентом, ни с проклинаемым сыном, ни с презираемым женихом. Он словно избавлялся от бремени совести, забывал о любых обязательствах и сбрасывал с себя груз человеческого принуждения. Видел и описывал миры заоблачных высей, не знавших закона земного тяготения. Подобно рабам, которые обретают волю, избавляясь от своих цепей, с пером в руке он переходил от состояния человека, пресмыкающегося перед другими, к состоянию свободы, оказываясь в другом, литературном измерении. И тогда все бесплодное, хаотичное, невразумительное и скрытое пеленой тумана озарялось лучом освободившегося от оков сознания, прояснялось, приходило в порядок и приносило свои плоды. В его голосе, обычно смущенном и слабом, слышались сила и решимость. В такие минуты мелкий страховой агент, покорный сын и порабощенный жених строил миры и завоевывал империи человеческой науки и знания, более сильные, могущественные и незапамятные, чем все владения Александра Великого. Имя этим империям – «Процесс», «Замок», «Америка».
Он умолк, чуть устыдившись своего безудержного лиризма, безграничного восхищения и чрезмерной сентиментальности. Потом добавил, дабы внести в свои слова последний нюанс:
– Но тесно с кем-то сближаясь, его нельзя видеть ясным взором. Истину человека, пожалуй, нельзя сводить единственно к толкованию его текстов или фактов его жизни. Я в любом случае не могу с уверенностью заявить, что докопался до сути этой истины, и именно поэтому работаю не психиатром, а хирургом, специализирующимся на операциях грудной клетки.
– Работали… – насмешливо поправил его Мартин. – Работали.
Потом чуть помолчал и добавил:
– Но если в деле установления истинности фактов у нас нет возможности полагаться на непосредственного свидетеля, то на кого нам тогда вообще можно рассчитывать?
– Видимо, только на себя, – ответил Роберт и сел на место.
Слово снова взял Велч.
– Благодарю вас, мой дорогой Роберт… Ну что же, наше собрание пора закрывать. Следующее состоится через две недели, на нем нам предстоит спуститься с Олимпа, если мне позволено применить это возвышенное словцо, и обсудить вопрос гораздо более прозаичный. Мы поговорим о реакции нашего журнала на возможный запрет евреям посещать парки и сады, потому как на некоторые пляжи на севере страны доступ нам уже закрыт. Спасибо, что пришли. По дороге домой не забывайте соблюдать осторожность.
Когда Роберт уже собирался уйти, к нему подошла сопровождавшая Альфреда Гроссмана женщина – еврейка уже в летах, словно явившаяся из прошлого века и напомнившая ему одну пациентку пражской больницы. Та рассказывала ему, что родилась в гетто, пока его не снесли, в те времена, когда оно еще возвышалось в городе со всеми его развалюхами, бесчисленными синагогами, мрачными улочками и големами. Не говоря ни слова и не сводя с него взгляда огромных глаз, дама долго жала ему руку.
Расходиться из прокуренной гостиной не торопились, продолжая спор о том, надо ли прочесть