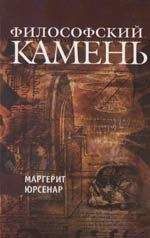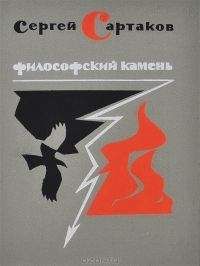— Ваше удушье исцелимо, господин приор, — солгал врач. — Я очень надеюсь на нынешнее теплое лето...
— Да, да, конечно, — рассеянно подтвердил приор.
И он протянул Зенону свою исхудалую руку. Дежуривший у постели больного монах на мгновение отлучился, и Себастьян Теус, воспользовавшись этим, сказал, что встретил брата Флориана.
— Да, да, Флориан, — повторил приор, желая, как видно, показать, что еще помнит имена. — Мы поручим ему подновить фрески на хорах. У монастыря нет денег, чтобы заказать новые...
Должно быть, ему казалось, что монах с кистями и красками появился в монастыре совсем недавно. Вопреки слухам, которые распространялись в монастырских коридорах, Зенон считал, что Жан-Луи де Берлемон совершенно в здравом рассудке, но с некоторых пор все его умственные способности сосредоточились на его внутренней жизни. Внезапно приор сделал врачу знак наклониться поближе, как если бы хотел доверить ему какую-то тайну, однако заговорил он уже не о брате-живописце.
— ...Жертва, о которой мы как-то говорили, друг Себастьян... Но жертвовать уже нечем... В мои годы неважно, будет человек жить или умрет...
— Для меня очень важно, чтобы приор был жив, — твердо сказал врач.
Но он отказался от попытки прибегнуть к помощи приора. Всякое обращение к больному могло обернуться доносом. Тайна могла по оплошности сорваться с усталых губ; а может быть даже, изнуренный болезнью монах проявил бы в этом деле строгость, ему не свойственную. Да и случай с письмом к вдове Эгмонта доказывал, что приор больше не хозяин у себя в монастыре.
Зенон сделал еще одну попытку припугнуть Сиприана. Он рассказал ему о несчастье, постигшем августинских монахов из Гейта, впрочем, брат-фельдшер должен был и сам кое-что об этом слышать. Ответ молодого францисканца был неожиданным.
— Августинцы — дураки, — коротко заявил он.
Но три дня спустя монашек с взволнованным видом подошел к лекарю.
— Брат Флориан потерял талисман, который дала ему одна египтянка, — сказал он в смятении. — Говорят, это может навлечь большую беду. Если бы менеер употребил свою силу...
— Я амулетами не торгую, — оборвал его Себастьян Теус и повернулся к нему спиной.
Назавтра, в ночь с пятницы на субботу, когда философ сидел, углубившись в свои книги, в открытое окно что-то бросили. Это оказался ореховый прутик. Зенон подошел к окну. Серая тень — в темноте лишь смутно белело лицо, руки и босые ноги — делала снизу призывные знаки. Мгновение спустя Сиприан исчез под аркадой.
Зенон, весь дрожа, вернулся к столу. Бурное желание завладело им, но он знал, что не поддастся ему, так же, как в других случаях, бывало, он, наоборот, заранее знал, что уступит, хотя внутреннее сопротивление казалось куда сильнее. Нет, он не последует за этим безумцем, чтобы принять участие в какой-нибудь нелепой оргии или ночном чародействе. Но среди будней, не дававших минуты покоя, перед лицом медленного разрушения плоти приора, а может быть, и его души, Зенону вдруг страстно захотелось вблизи молодой, горячей жизни позабыть могущественную власть холода, гибели и ночи. Была ли настойчивость Сиприана просто стремлением заручиться поддержкой человека, которого считали полезным, да к тому же наделенным магической силой? Или то была извечная попытка Алкивиада искусить Сократа? Наконец философу пришла в голову и вовсе безумная мысль. Что, если его собственные желания, которые он обуздал ради того, чтобы отдаться исследованиям более глубоким, нежели даже изучение самой плоти, облеклись вовне в эту ребячливую и пагубную форму? Extinctis luminibus[33]. Он погасил лампу. Тщетно пытался он как анатом, а не как любовник, с презрением вообразить забавы этих человеческих детенышей. Он твердил себе, что рот, расточающий поцелуи, создан для жевания, а отпечаток губ, в которые ты только что впивался, вызывает брезгливость, когда ты видишь его на краю стакана. Напрасно рисовал он в своем воображении прилепившихся друг к другу белых гусениц или несчастных мушек, увязших в меду. Что там ни говори, Иделетта, Сиприан, Франсуа де Бюр и Матье Артс были хороши собой. Заброшенные бани и в самом деле стали обителью волхвованья; в жарком пламени чувственности совершалась трансмутация, как в алхимическом горне, — ради него стоило пренебречь пламенем костра. Белизна обнаженных тел была сродни свечению, которое свидетельствует о скрытых достоинствах камней.
Утром наступило отрезвление. Да лучше уж предаться разврату в каком-нибудь притоне, чем участвовать в дурацких фарсах, разыгрываемых Ангелами. Внизу, в серых стенах лечебницы, не смущаясь присутствием старухи, которая каждую субботу приходила лечить свои варикозные язвы, медик сурово отчитал Сиприана, уронившего коробку с бинтами. В лице монашка с чуть припухлыми веками не было ничего необычного. Ночное видение могло просто пригрезиться Зенону.
Но теперь в выходках юных монашков стала сквозить ирония и даже враждебность. Однажды утром философ обнаружил в лаборатории оставленный на виду рисунок, слишком искусный, чтобы принадлежать руке Сиприана, столь неумело водившего пером, что он едва мог подписать свое имя. В скопище изображенных фигур угадывалась своенравная фантазия Флориана. На листке представлен был сад наслаждений, который нередко изображали на своих полотнах художники; люди благонравные усматривали в этих картинах сатирическое изображение греха, другие, более проницательные, напротив, — разгул плотских вожделений. Обнаженная красавица в сопровождении своих возлюбленных входила в воду, собираясь искупаться. За опущенным пологом обнимались двое любовников, и лишь сплетение их босых ног выдавало, чем они занимаются. Молодой человек нежно раздвигал колени предмета своей страсти, походившего на него, как две капли воды. Изо рта и срамного отверстия простертого ниц юноши произрастали хрупкие цветы. Арапка протягивала на подносе гигантскую малину. Наслаждения, представленные такой аллегорией, превращались в чародейную игру, в опасную издевку. Философ задумчиво изорвал рисунок.
Два-три дня спустя он стал мишенью другой похотливой шутки: кто-то извлек из шкафа старые башмаки, которые надевали в слякоть и в снежную погоду, когда надо было пройти через сад; выставленные на полу посреди комнаты, ботинки эти громоздились друг на друге в непристойном беспорядке. Зенон расшвырял их ногой; шутка была грубой. Но еще больше встревожил его предмет, который однажды вечером он обнаружил в собственной комнате. Это был гладкий камешек, на котором неловкая рука нацарапала лицо и фигуру с признаками то ли женщины, то ли гермафродита; камешек был обмотан прядью белокурых волос. Философ сжег белокурый локон и с презрением швырнул в ящик это подобие приворотной куклы. Преследования прекратились; Зенон ни разу не унизился до того, чтобы говорить о них с Сиприаном. Он даже начал думать, что и безрассудства Ангелов кончатся сами собой, просто потому, что все на свете имеет конец.
Общественные невзгоды приводили все больше посетителей в убежище Святого Козьмы. К постоянным пациентам теперь прибавились лица, которые редко случалось видеть дважды. То были деревенские жители с разнообразными пожитками, наспех собранными накануне бегства или спасенными из горящего дома: подпаленными одеялами, перинами, из которых вылезали перья, кухонной утварью, щербатыми горшками. Женщины несли завернутых в грязное тряпье детей. Почти все эти простолюдины, изгнанные из непокорных деревень, одна за другой разоряемых королевскими войсками, страдали от увечий и ран, но более всего — от голода. Некоторые брели по городу, словно кочующее стадо, не зная, где сделают следующий привал, другие направлялись к родным, жившим в здешних краях, которые меньше пострадали от испанцев, и еще сохранившим и скотину, и домашний очаг. С помощью брата Люка Зенону удалось раздобыть хлеб для раздачи самым обездоленным. Меньше стенали, но глядели более настороженно пришельцы, странствовавшие, как правило, в одиночку или небольшими группами по двое, по трое, в которых можно было узнать людей ученого звания или мастеров-ремесленников, прибывших из дальних городов — их, без сомнения, разыскивал кровавый Трибунал. На этих беженцах была добротная городская одежда, но их дырявые башмаки и распухшие, покрытые волдырями ноги свидетельствовали о долгих переходах, к которым не привыкли эти домоседы. Они скрывали, куда держат путь, но от старой Греты Зенон знал, что почти каждый день из укромных бухточек на побережье отчаливают рыбацкие суда, увозящие патриотов в Англию или в Зеландию, смотря по направлению ветра и по тяжести их кошелька. Беглецам оказывали врачебную помощь, не задавая вопросов.
Себастьян Теус больше не отходил от приора. Лечебницу он мог доверить двум монахам, которые мало-помалу обучились у него начаткам врачебного искусства. Брат Люк, человек степенный и добросовестный, не помышлял ни о чем, кроме дела, которое ему поручили в данную минуту. А Сиприану была не чужда жалостливая доброта.