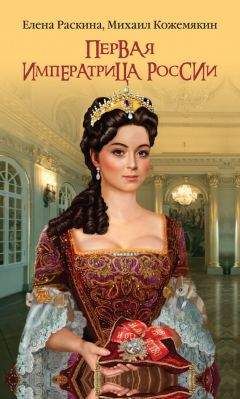– Ну когда ж ты поумнеешь, Дуня? Когда поймешь, что и другие страны Богу угодны, не только Русь Святая?
Евдокия на это головой покачала недовольно. Может, другие страны Богу и угодны, но только одна Русь – свята! Стало быть, только язык российский знать и должно. А остальное все – тлен и томление духа. Спросила она у царицы Натальи:
– А может, мне Петру Алексеевичу птиц райских на подушке вышить? Он, надежа-государь, возрадуется да ко мне душой повернется…
– Вышей, Дуня, вышей… – согласилась Наталья Кирилловна. – Только лучше не птиц райских, а корабли, что по морям плавают… Петруша корабли любит!
– Я кораблей сроду не видела… – ответила Дуня. – Как мне их вышить?
– А я тебе книжку дам, ты с нее и срисуй! – предложила свекровь.
Дуня с тоски согласилась корабли вышивать. Старалась, все пальцы себе иголкой исколола. Кривобокие да нескладные корабли у нее получились. Птицы бы лучше вышли. Но все равно Петру Алексеевичу их показала.
Он лицом просветлел, улыбнулся ей даже. Сказал: «Молодец, Дуня! Старалась для меня, вижу! Пальцы небось болят?»
Она застыдилась, хоть и мужняя жена, но пальчики исколотые мужу показала. Улыбнулся Петруша, ласково так, и пальцы ей поцеловал… Щекотно! Усы у него большие, жесткие, как у Кота-Котобрыса… А бороду не носит – дивно! Подбородок гладкий, как у немца с Кукуя или у мальца какого…
– Корабли у тебя, Дуня, правда, кривые вышли… Такой корабль в море сразу утопнет… Неладно он скроен… Но все равно спасибо, что для меня старалась! Может, и в море со мной пойдешь? – весело спросил царь.
– Да где ж мы, надежа-государь, море на Руси сыщем? Не было у нас сроду морей, кроме Белого. Али к поморам поедем? – удивилась Евдокия.
– А я тебя, Дуня, в Переславль-Залесский возьму! – с неожиданной щедростью предложил Петр. – Там озеро есть – широкое, словно море! Корабли мы там ныне строим!
– А ежели утопнем, надежа-государь? Боязно мне, родимый!
– Не утопнем, Дуня, не боись! – рассмеялся царь. – Ладный бот мне там мастера немецкие да поморские сделали. На нем и прокатимся с друзьями моими верными. С Алексашкой Меншиковым да с Францем Лефортом! И тебя возьмем!
Тут Евдокия даже обиделась. Ей, царице русской, дочери боярской, с литвином, что еще недавно, говорят, на Москве пирогами торговал, да с хранцузом, латином богомерзким, в одной ладье по озеру кататься! Как только Петр Алексеевич такое удумал! Боярских сынов ему, что ль, мало! Братьев Дуниных с собой не взял – одного в школу морскую, в страны дальние отослал, другого опалой пугает. А литвин Меншиков да француз Лефорт у него в чести! Так царю и ответила – что негоже ей, царице русской, с латинами да литвинами в одной ладье сидеть.
Осерчал царь, брови сдвинул сурово, ответил:
– Они мне не латин с литвином, а слуги верные, друзья честные! И не тебе, дуре, их порочить! А царица ты, Евдокия Федоровна, – пока я того желаю! Захочу, так живо царский венец снимешь – и монашеский убор наденешь!
Евдокия не испугалась, сказала царю так:
– Мы с тобой, надежа-государь, перед Богом венчаны. И сын у нас есть, а у царства твоего – наследник! А стало быть, царицей московской я до смертного часа буду! И не в твоей власти сие изменить, а в Божьей!
Тут Петр подушку ее, кораблями расшитую, об пол – шварк! Дверью хлопнул да вышел! А она – снова на постель, рыдать…
Так у них и пошло день за днем – Петр Алексеевич гневается, Евдокия – плачет. И царица Наталья Кирилловна не помогла. Не получилось у нее это, видно. Свекровь хоть и воспитывалась у еретика Матвеева, а все ж таки была нрава доброго. Она Дуню жалела, заступалась за нее перед сыном, только он мать не слушал. Подолгу из дома уезжал. Оставлял Дуню одну – то в Кремле, то в селе Преображенском. Только свет Алешенька, сынок милый, был Евдокии утешеньем. Брала она мальчика на руки и горько-горько плакала… Так слезами его и обливала, младенчика. А как подрос Алешенька, так и вовсе мать веселой не видел. От слез материнских тяжело ему становилось. И винил он в горе ее отца.
А горе Дунино началось с первого же дня, точнее – ночи, ее разнесчастного брака с Петром Алексеевичем. Сначала, еще перед венчанием, ей имя переменили. Отец, стрелецкий полковник Илларион Авраамович Лопухин, звал дочь Прасковьей. Под этим именем ее окрестили, так и величали до самого замужества. А как сосватали ее царю Петру, так велели называться Евдокией. Мол, одна Прасковья у нас в царском роду уже есть – жена соправителя Петра, Ивана Алексеевича. А второй быть не должно – путать начнут! Отчество тоже переменить велели – Федоровной назвали, в честь иконы Федоровской Божией Матери, святыни дома Романовых. Так и вся жизнь у Прасковьи-Евдокии пошла вкривь и вкось, наоборот, не таким путем, как у других боярышень. Муж не только знать ее не хотел, но и променял на лютеранку богопротивную, Аньку Монс.
Евдокия все думала, какая она, эта полюбовница Петрова, Анька Монс с Кукуя? Чем она сумела обольстить Петра Алексеевича? Видно, тем, что в немецком платье, с бесстыдно открытыми титьками ходит да напиток богопротивный – кофий – на серебряном подносе подает. Царь велел было и ей, Евдокии, пить кофий заместо брусничного квасу да сбитня, но она наотрез отказалась: негоже царице московской заморскую отраву хлебать! Петруша еще больше на нее за то рассердился и неделями у жены не бывал. А потом и вовсе дела державные их по сторонам развели: все по чужим краям Петр Алексеевич таскался, жил среди проклятых латинов и лютеров, бояр да слуг своих честных по чужбинам возил и называл это – тьфу, пропасть! – Великим Посольством. То корабли свои на озере Плещеевом строил, то на Беломорье гостил, то под Азов воевать ходил… Не до жены ему было!
Другие цари все за кремлевскими стенами сидели – и хорошо это было, правильно, как великим государям подобает. А Петр Алексеевич Кремля не любил. Если и приезжал на Москву, то жил в селе Преображенском. И Дуню от Кремля отучал. А зачем? Вестимое ли это дело – царице в селе жить, как бабе простецкой? Без стен крепких заветных, из-за которых цари испокон веку, словно великое чудо, народу показывались? Разве может царь, забыв, что он – помазанник Божий и Святой Руси владыка, плотничать, корабли строить, зубы гнилые драть да с солдатами водку пьянствовать? Евдокии казалось, что ее муж попрал великую тайну Святой Руси – божественную природу царской власти. Царь высоко над другими людьми стоять должен, выше – только Господь! А он, Петр Алексеевич, прост слишком, медленно и величаво ходить не умеет, златотканых одежд не носит и все бежит куда-то, торопится! Ее, царицу русскую, из старинного рода боярского, хоть и небогатого, на распростую прошманду кабацкую променял! Чтоб у нее, у Аньки Монс, титьки бесстыжие отсохли, да ножищи длинные покоробились, да кофий этот проклятый в глотке змеиной застрял!
Сходить бы Евдокии на Кукуй растреклятый, посмотреть на разлучницу Аньку Монс, а то ведь не видала ее ни разу! Но нельзя… Не подобает царице православной к гулящей лютеранке на поклон идти! Приказала бы она холопам притащить Аньку за патлы ее богопротивные, под плат не убранные, в кремлевские палаты или в Преображенское, или в село Медведково, кудри бы ее накрученные повыдергала, харю бы нарумяненную искровянила, да в подвал – на хлеб и воду посадила! Но нельзя так сделать – Петр Алексеевич страшно разгневается, в монастырь свою Дуню отправит. Хотя какая она, Дуня, Петрова? Так, телеге пятое колесо… Сына родила, а теперь иди на все четыре стороны!
Наталья Кирилловна тоже крепко осерчала на Дуню. А произошло это из-за Степана Глебова, давнего Дуниного знакомца, еще с детства безмятежного, в отцовских хоромах прошедшего. Взяли Степана, бывшего жениха Дуниного, стольником ко двору царицы Прасковьи Федоровны, урожденной Салтыковой, жены соправителя Петра Алексеевича царя Иоанна. Там они и повидались снова, когда с царицей Натальей Кирилловной Прасковью Федоровну навещали. Не смогла Дуня унять дрожь сердечную, когда ангела-Степушку увидела. Подавал он трем царицам на стол – блюда от слуг верных брал да в горницу заносил, в кубки золотые квас брусничный наливал. А когда вышел Степан, царица Прасковья (та еще греховодница!) предложила Наталье Кирилловне с Евдокией побаловаться иноземным вином, рейнским, что у нее в потайном шкапчике для особых случаев хранилось. Не сознавалась Прасковья Федоровна супругу своему в том, что рейнским балуется. К шкапчику заветному, таясь от всех, ходила. Но царице Наталье доверилась – знала, видно, что та в дому у покойного боярина Матвеева вино открыто, за столом, пивала… Пока Прасковья с Натальей Кирилловной к шкапчику заветному ходили, Дуня тайком с сердечным дружком Степушкой несколькими словами перемолвились. А он, друг давний, заветный, даже руку ей тайком пожал.
Царицы от шкапчика вернулись веселые, раскрасневшиеся – видно, пошло им впрок иноземное пойло! Дуня даже сама пожалела, что капельку не отведала… А потом себя стыдить начала: разве по сану московской царице винище хлебать, словно мужику пропащему?! Стыдила себя, стыдила, а у самой щеки от Степушкиных слов горели ярче, чем у Прасковьи с Натальей Кирилловной от рейнского вина.