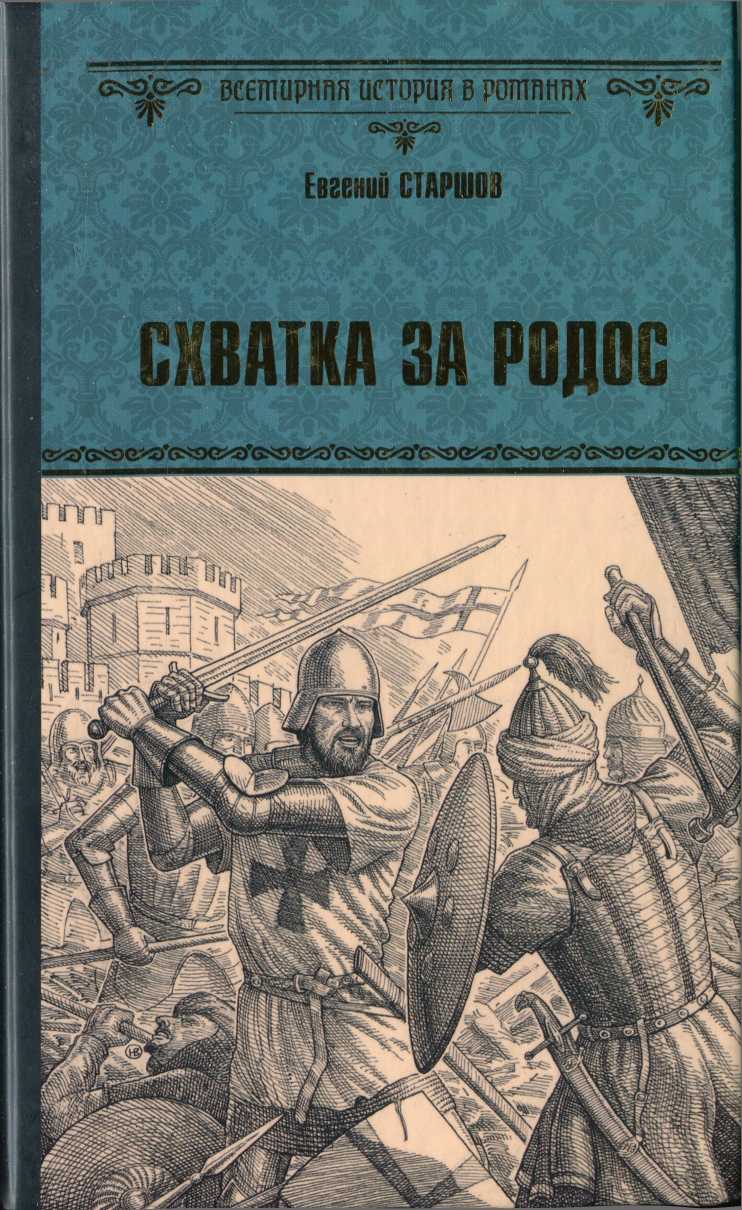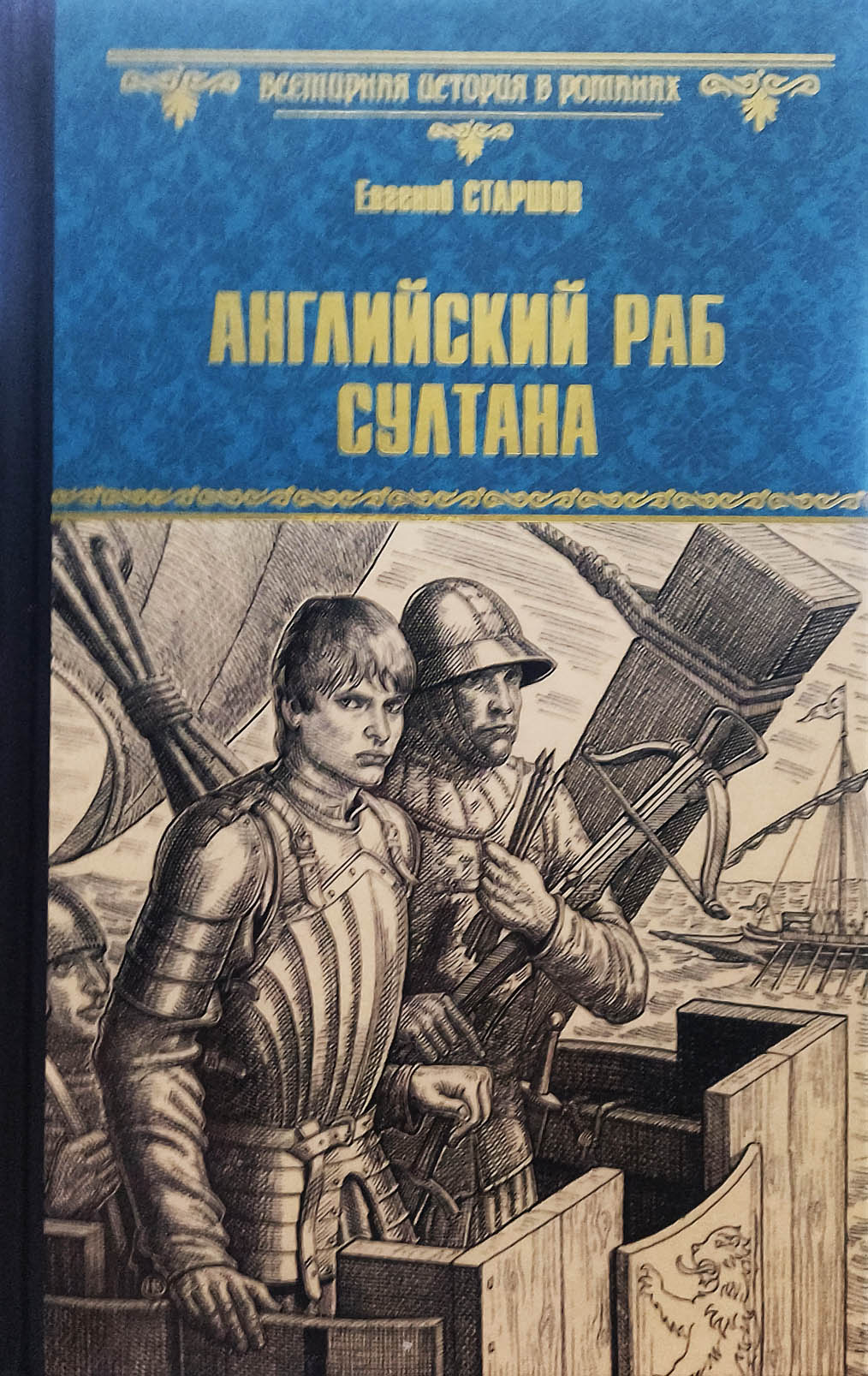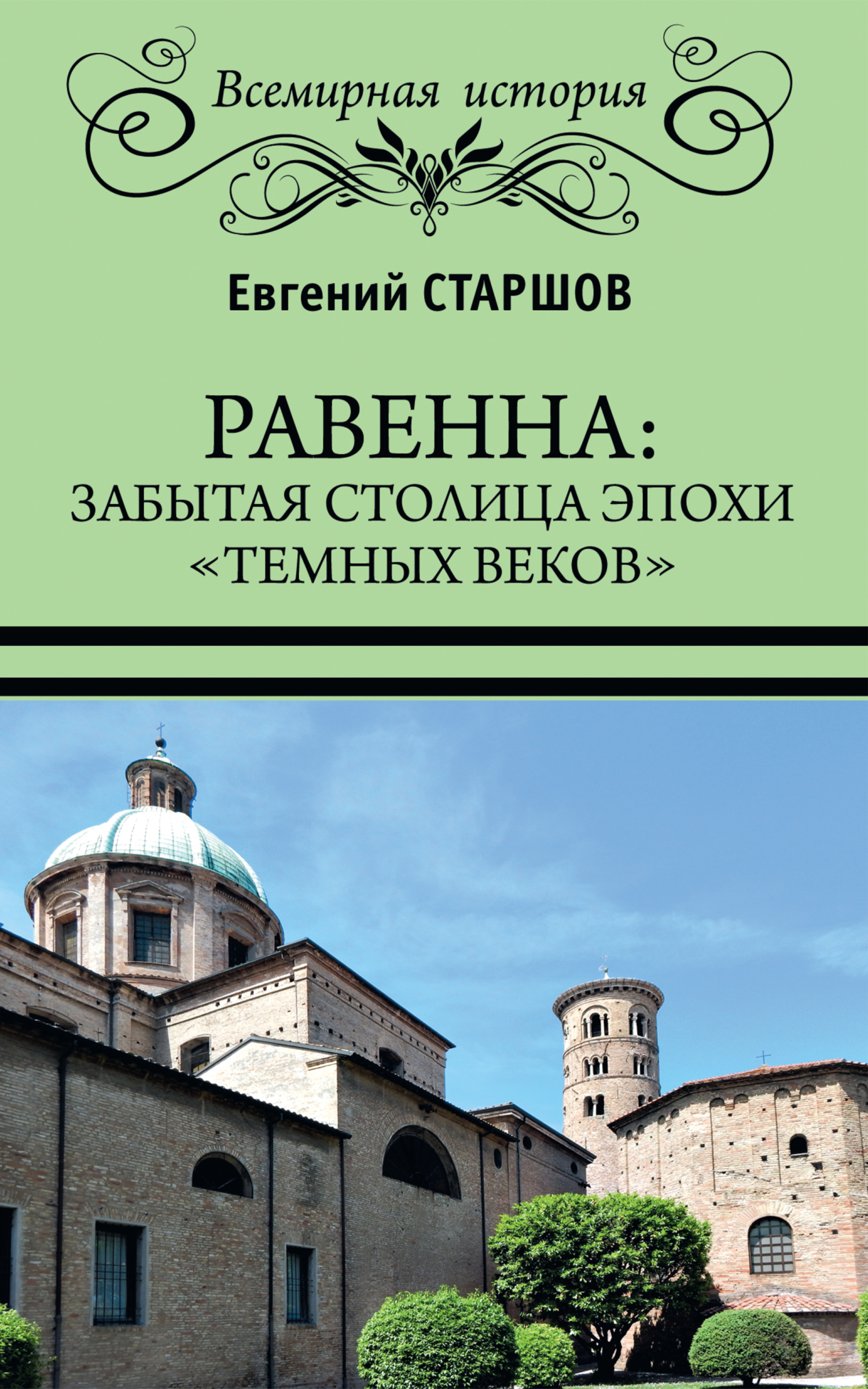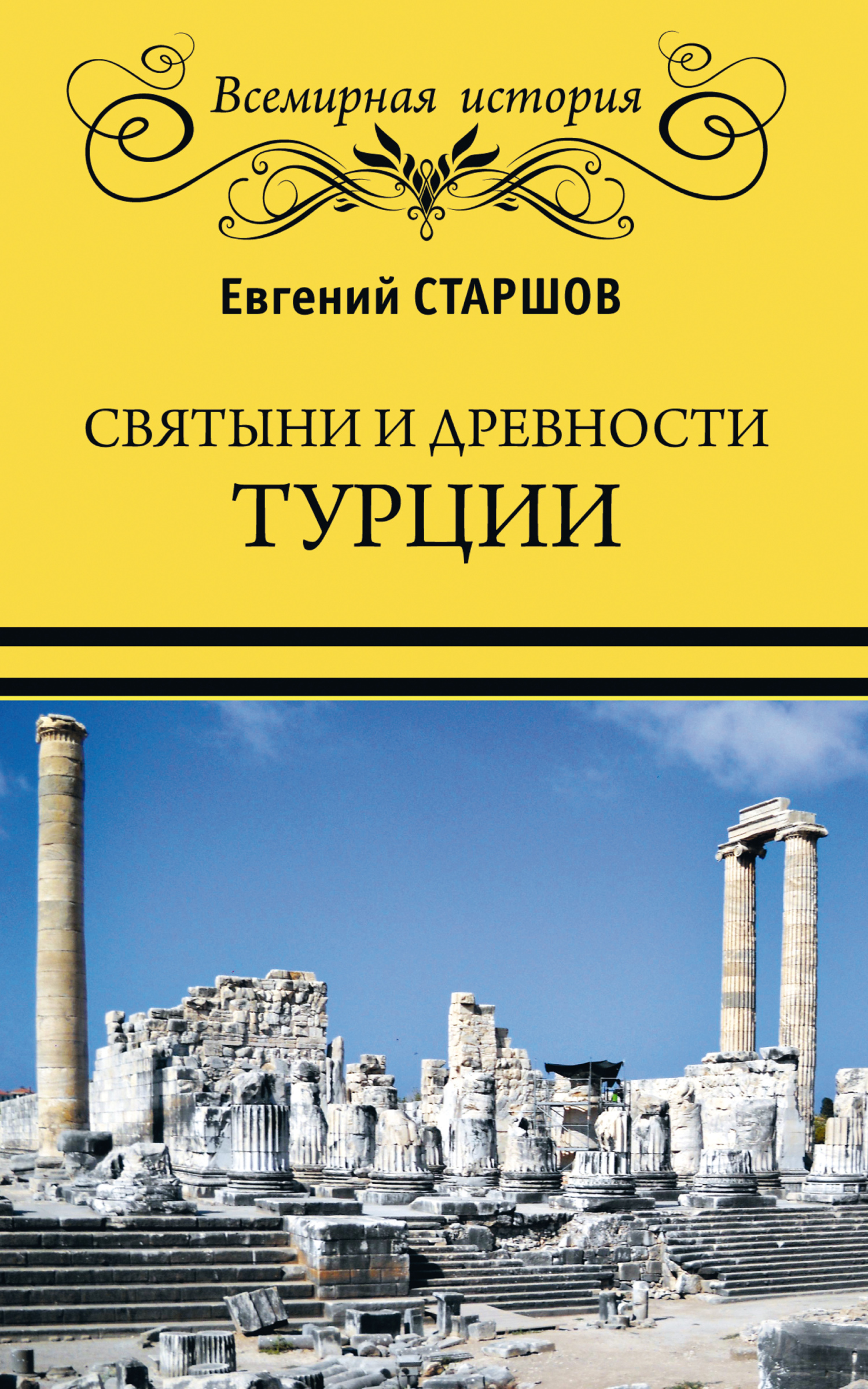дошли до предела — не признаемся только. Однако я за всех себя драть не позволю: пойти я пойду, и с магистром поговорю, однако вы должны собрать депутацию, чтобы в случае надобности подтвердить и засвидетельствовать мои слова. Дескать, не сам я придумал вести переговоры с турками… Естественно, будьте готовы к худшему. Я вас не пугаю, но, сами знаете, что касается себя — д’Обюссон все простит и забудет, а вот что касается острова, его жителей и воинов — тут он может взъяриться, и тогда… — Филельфус не договорил и сделал жест рукой в виде опоясывающей шею петли.
— Мы понимаем, — сурово ответили несколько голосов, — не на пир пойдем. Край пришел, и если надо, мы не побоимся умереть, но правду выскажем, а заодно и послушаем, что нам самим скажут.
— Тогда чего кота за хвост тянуть? Пойдемте, и да решится все ко всеобщему благу!..
Секретарь застал д’Обюссона в редчайшие минуты отдохновения. Магистр не спал, даже не дремал — просто находился в состоянии какого-то благотворного забытья, сидя на своем троне. Одна из его рук бессильно повисла, другая — лежала на лбу огромной собаки, которая сидела, не шевелясь, будто изваянная из мрамора. "Надо же, — подумал Филельфус, — зверь — и тот понимает, что хозяину нужен отдых… А мне придется его будить".
Он вгляделся в лицо магистра Пьера. Осунулся, под глазами черные круги… Не голова стала, а обтянутый тонкой кожей череп… А как поседела длинная шелковистая борода!.. Нет, и ему уже не выдержать.
Под укоризненным взглядом собаки Филельфус почтительно дотронулся до плеча магистра.
— Что, мой добрый Филельфус? Говори, я не сплю, это так… немощь плоти…
Выражаясь как можно дипломатичнее и лаконичнее, секретарь изложил приведшее его дело. Магистр молчал, закрыв глаза. Секретарю оставалось только догадываться, о чем тот думает, ибо никакого отражения на лице д’Обюссона мучавшие его мысли не оставляли. Наконец, очень тихо — можно даже сказать, еле слышно — француз изрек:
— Пусть они придут…
— Избранные их люди ждут за дверями.
— Тем лучше. Пусть войдут.
Филельфус пошел за земляками, а оставшийся на время в одиночестве д’Обюссон изо всей силы ударил кулаком по ручке трона, обеспокоив сидевшего пса. К хозяину тут же невесть откуда примчался второй пес, тревожно посмотрел в глаза.
— Детушки мои… Неужто вы одни еще готовы переносить со мной тягостное бремя?.. Не верю! — И магистр встал, гордо распрямившись. Он должен принять депутацию стоя, чтоб видели, сколь велики еще в нем силы для сопротивления!..
Итальянцы, среди которых были в первую очередь рыцари ордена, вошли, полные отчаянной решимости. Две силы были готовы столкнуться, и как знать, начни сейчас магистр кричать, усовещивать — как бы еще дело обернулось. Но бессилие сыграло свою роль. Не грозного, упрямого деспота, не упертого фанатика, готового погубить во имя своего умопомрачения не только себя, но и всех окружающих узрели рыцари — но измученного человека на грани смерти, неизвестно, как еще живущего и действующего, немощного, безвременно состарившегося, отдавшего всего себя делу обороны без малейшего остатка.
Тяжело дыша, великий магистр произнес ледяным тоном:
— Господа…
Это шокировало вошедших: как "господа"? Не "братья"?! Что же это значит, и что последует за этим?..
Невзирая на произведенное смущение, д’Обюссон продолжал так же холодно и спокойно:
— Если вам так страшны войска Мехмеда, что вы позабыли о долге и чести рыцарей ордена, то что же — я даю вам полную свободу покинуть остров. Выход из гавани еще позволяет беспрепятственно сделать это, и я отдам в ваше распоряжение большую галеру со всем воинским припасом. Не хватит места — дам и вторую, сколь понадобится. Воздух будет чище.
Рыцари были готовы ко всему — к яростным обличениям, гневу, даже заключению и казни, но не к этим словам. Все, невысказанное магистром, въяве показывало, что они, действительно, как подлые трусы, готовы ради спасения своих шкур бросить в беде своих более стойких товарищей. Хотя, видит Бог, не было такого намерения! Пожалуй, окажись каждый из них на месте магистра, тоже решил бы, что на острове не нужны такие негодяи, думающие о собственном спасении, когда иные готовы души свои положить за други своя, за веру Христову, преграждая поганым путь в сердце Европы. Стыд и смущение заставили рыцарей склонить головы и опустить плечи.
И тогда настал момент гнева! Нет, д’Обюссон не был коварным тираном и лицедеем, расчетливо разыгравшим быстро сочиненную заранее драму по частям. Нет. Все было естественно и от души. Лицо магистра исказила судорога, глаза с красными прожилками вылезли из орбит, и под сводами зала дворца загремел голос совсем иного д’Обюссона:
— Что же вы медлите?! Стыдно? Да, Родосу не нужны малодушные, помышляющие о спасении ценой позора! Свои седины не дам позорить! Не было такого, чтобы великий магистр ордена иоаннитов сдал вверенные его попечению бастионы и людей! Я паду, как и все верные, кто со мной — и никто в христианском мире не скажет, что Пьер д’Обюссон, дрожа за свою никчемную жизнь, сдал врагу Родос и открыл ему путь на Италию — на вашу родину!.. Туда, где сидит на святом престоле святейший наш отец, папа! Не будет такого! Впрочем, вы можете остаться… Но тогда ни слова, ни даже единой мысли о сдаче! Иначе — как Бог свят!!! — я повешу каждого, кто хотя бы заикнется об этом. Идите прочь — туда, куда завет вас совесть: на галеру или на стены!
— Отец!!! — Рыцари гурьбой повалили к магистру и пали к его ногам. — Прости за малодушие! Прости!!!
И магистр, тяжело дыша, улыбнулся и сказал, как обычно, мягко и утешительно:
— Встаньте, братья… нет, дети мои! Я прощаю вас… Все понимаю, но держитесь, держитесь… Бог терпел и нам велел… Претерпевший до конца — тот спасется. Слава воинам Родоса, живым и мертвым. Не позорьте же их…
Рыцари продолжали стенать и наперебой говорили:
— Спасибо, отец! Но мы недостойны!
— Мы заслужим твое прощение в бою!
— Смоем кровью позор наш — либо вражьей, либо своей!..
Сцена, поистине достойная пера Шекспира, отразила всю славу блистательного заката Средневековья! Рыцари Италии не пустословили — ночью они (одних братьев-рыцарей было около пятидесяти, не считая сарджентов, простых воинов и добровольцев) сделали блистательную вылазку, порубили много турок, предававшихся беспечному сну, и заклепали множество орудий, прежде чем были оттеснены. Несмотря на всю проявленную удаль и значительные успехи, было очевидно, что одними вылазками врага не одолеть, а помощь так и не шла…
Разъяренный Мизак-паша меж тем даже решил пожертвовать своим драгоценным сном.