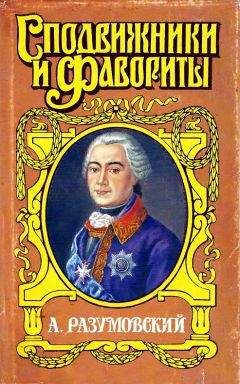— Да-а, Алексей Григорьевич… Я вот так не могу.
— И напрасно, граф, напрасно. Делайте, как дело велит. Без вас держава все равно не обойдется. А значит — и государыня.
— Ой, не скажите, Алексей Григорьевич! Знавал я опалы, знавал…
— Да ведь Бог миловал?
— Иногда отступался, а потом милость все же давал.
— Вот видите. Даст и на этот раз. Поверьте своему другу: вечером Елизавет и не вспомнит о своем гневе.
— Вашими бы устами, Алексей Григорьевич…
— Моими, моими, Алексей Петрович. До бала метнем-ка банк? Да новой партии венгерского испробуем? Глядишь, и англицкий остров худо-бедно к берегу какому-нибудь причалит. Наши доблестные солдатики в штыки возьмут Фридриха и на английские пушки погонят. Чем не жизнь?
— Жизнь, Алексей Григорьевич, жизнь.
— Вот видите. Сядаемо, мой добродей, — вперед пропустил мудрого друга, на великолепные английские рессоры, на воздушные пуховики, под озолоченный бархат кареты.
Роскошный шестерик нетерпеливо бил копытами. Два кучера, как два самодержца, еле сдерживали на осеребреных ремнях свою неспокойную империю. Двое слуг, усадив хозяина и гостя, выжидательно встали на запятки.
Щелкнули разом два бича, как струны напряглись две пары ременных вожжей. Сорвались с места в окат две пары колес. Прямиком! До Аничкова дворца, значит.
Алексей по привычке расстегнул боковой кожаный карман. Он не любил, чтоб в карете находились слуги: не лакейское это дело. Штофик для того небьющийся, серебряный. Кубки небольшие, тоже неколкие. Приятная беседа. Приятная жизнь.
На подъезде к Аничкову дворцу, где обретался в свободное время камергер Алексей Разумовский, суровый граф тоже разгладил жесткие складки вкруг невоздержанного рта:
— За дружество наше, любезный Алексей Григорьевич!
— Говорите уж — за родство скорое!
Племянник у вице-канцлера да племянница у камергера — чем не пара? Толковали уже об этом. Не беда, что ни жених, ни невеста в глаза друг друга не видели. Время придет — свидятся. Мать-то ведь сюда со всем девишником нагрянет. Не приглянется племянница — сестру бери любую!
Бестужеву льстило дружество всесильного Разумовского.
Разумовского подогревала родовитость Бестужева. Не за казаков же самостийных теперь девок отдавать!
Алексей снова наполнил кубки и свободной рукой приобнял будущего свояка. О чем говорить? Им нельзя друг без друга. Это уже не женское — это мужское дело.
Накануне коронации Елизавета обратилась к своему первому камергеру с такими словами:
— Ваша светлость, а теперь — и обер-егермейстер! Довольны ли вы своей судьбой?
Глаза Елизаветы, и всегда-то лучистые, исходили истинно уж воробьиным соком — она приняла этот деревенский комплимент еще в первые годы и никогда от него не отказывалась: прекрасно ведала божественный дар своего взгляда. Алексей завороженно испивал этот нежно-птичий взгляд. Ему и в детстве доводилось держать воробушка в ладонях — то замерзающего, то подшибленного, но всегда невозбранно счастливого. Вот оно! У всего земного ведь есть свое око — у кошки ли, домашней, у лани ли лесной, у женщины ли, себя самоистязающей; он мало пользовался салонными словами, но сейчас сказал бы: экзальтация!
— Что же ты молчишь, мой друг нелицемерный?
— А что я могу сказать, ваше величество?
— Не ваше — твое! Полно очи долу опускать. Знаешь, как я боюсь завтрашнего дня?
— Не может быть, моя господыня!
— Может… Потому и Указ о назначении тебя обер-егермейстером выходит накануне. Не только по сердцу — и по должности тебе надлежит быть неотлучно при мне. Спокойствия моего ради. Только тебе я могу доверить нести свой шлейф. Вдруг кто на хвост наступит? — Веселой шутки не получилось. — Мало ли недоброжелателей вокруг…
— Никто не наступит. Уж поверь мне, Лизанька!
— Верю. И отпускаю тебя до завтрашнего дня: с церемониймейстером решите, как да что. С Богом!
Она снова уже была императрицей. Заботы завтрашнего дня подернули взгляд серой пленкой — куда что подевалось…
Алексей посчитал за лучшее поклониться да уйти в свои покои. Весь необозримо великий Головинский дворец представлял из себя одну сплошную канцелярию. Везде шла суетливая подготовка. Как от века повелось, так и должна была проходить коронация.
Но за порог ее покоев не успел выйти — опять окликнула:
— Погоди, Алешенька… — Он остановился, Елизавета сама подошла к нему. — Что я еще хотела сказать?.. Да, мучаюсь сомнением! Надо бы… и не могу казнить этих негодников…
— Негодники уже получили свое.
— Я не велела делать им зла, пока не отбудут все три преважности…
— Коронация — прежде всего?
— Наше венчание, друг мой прескромный.
— А третье?
— Уж тут и говорить нечего: приезд твоей матушки. Надо же спознаться с Натальей Демьяновной… свекровью-то дражайшей? — Она сдержала невольную усмешку. — Письма и указы киевскому полковнику посланы, да и фурьер нарочный будет. Жаль, не поспеть свекровушке к коронации!
— Тем лучше. В тихое время — тихонько и прибудет. Я тоже все отписал ей доподлинно. Нет, моя господыня, попозже. Как ей вынести наплыв в Москву такой многоликой светлости!
— Толпы — уж лучше сказать. Вместе и с негодниками…
Елизавету передернуло при очередном упоминании о мерзком заговоре. Камер-лакей Турчанинов, прапорщик-преображенец Петр Ивашкин да сержант-измайловец Иван Сновидов сидели в крепости… от лютой смерти спасенные самой же императрицей. Но позже, когда утихнут празднества, им все равно не избежать кнутов, вырванных языков и навечной ссылки в Сибирь.
Что надумали! Не зря же писаная речь Новогородского архиепископа Амвросия изобиловала такими горькими словами:
«…Идти грудью против неприятеля и сидящих в гнезде орла российского нощных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать, коварных разорителей отечества связать, побороть, и наследие Петра Великого из чужих рук вырвать, и сынов российских из неволи высвободить…»
Наутро, как и полагалось, первый камергер Алексей Разумовский неукоснительно был за спиной императрицы. Речь архиепископа Амвросия слышал теми же ушами, что и она. Не камергер, не обер-егермейстер — просто раб преданнейший. Не тяжел, хоть и озолоченный, царский шлейф, но руки каменели от напряжения. Что не долетало до императрицы — краем укромного шепота задевало его. Долгое это действо — коронация. Скучно разодетой в пух и прах толпе. Ближняя свита тянулась несообразно длинной змеей вслед за широко и гордо шествующей государыней; не умела она ходить мелкими шажками, а в торжественных случаях уже явно отцовское прорывалось, разматывало широкий шаг. Старые сановники вынуждены были поспешать, чтоб не оказаться в конце свиты. Кто отстал — тот пропал! У этой раззолоченной толпы имелись свои глаза и уши. Да и обычный городской люд стоял плотными шпалерами[9] по сторонам. Гвардейцы еле сдерживали людской напор. Немногие видели, что происходило впереди, а уж слышать — и подавно не слышали. Но бывший певчий зря жаловался на свой угаснувший талант; голос, может быть, и сдал, а слух оставался чутким. Не только же о делах государственных погудывала обочная толпа, да хоть и сама свита. Скука ведь не тетка. Особливо ежели тебе не светят ни ордена, ни камергерские почести. Ты соседа локтем подтолкнул, а тот своего соседушку — и пошло-поехало!
— Что Москва? Заштатный городишко.
— Не скажи, куманек. Корону-то на царскую головушку все-таки в Первопрестольной возлагают. Не в гнилом же Питер-городе!
— Ну да. Под такой денек многих из ссылки ли, из тюрьмы ли возвернули — не с того разбои да грабежи?
— Вот я и говорю: власть опаску имеет. Велено поставить в Москве две роты драгун да роту солдат. Что нонешние? В полицейской команде старики да инвалиды.
— А гвардейцы? Им несть числа!
— Гвардейцы же и бузотерят больше всего. Кричат: мы-де взяли из немецких рук российский трон!
— Ой, не скажи, кум! Что хотят, то и воротят. Нет на них управы…
Слишком разговорились кумовья. И до гвардейских ушей долетело. Там и сям взметнулись сабли, пока плашмя по дурным башкам. Не разевай непотребное ртище!
До Успенского собора, хоть и отцовским шагом, идти да идти. Все-таки не побежишь вскачь. Вот даже Кремль, а не все ямины и промоины успели заделать. Весна еще не высушила землю. Целые оравы колодников ровняли дорогу к трону, но как без огрехов. Алексей по дерганью шлейфа почувствовал, что споткнулась императрица. Ему никак нельзя было оставить свой пост — уже статс-дамы поддержали государыню. Это мог бы сделать и шалопай-наследник — нет, знай семенил по правую руку. Куда ему, недоростку непутевому? Не было у него ни понятия, ни сознания того, что не только в Успенском соборе — во всех российских церквах после императрицы славили «наследника ее, внука Петра Первого, благоверного государя великого князя Петра Федоровича». Он часто оглядывался и подмигивал глуповато первому камергеру, несшему шлейф царственной тетки. Право, у церемонно выступавшего камергера хулиганская мысль появлялась: а не дать ли ему хохлацкой рукой по загривку? То-то было бы зрелище для толпы.