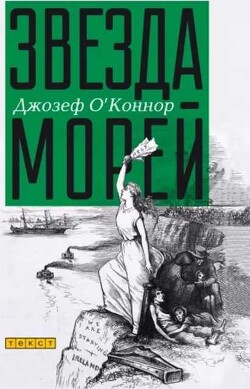Марокканцы в тюрбанах, индийцы с кожей цвета тикового дерева, красивые техасцы с загаром таким ярко-оранжевым, что, впервые увидев техасца, Малви решил: у бедняги желтуха. Французы, голландцы, пахнущие пряностями испанцы. Виноторговцы из Бургундии. Акробаты из Рима. Однажды вечером с высоты своего семиэтажного насеста Малви наблюдал за группой оперных певцов откуда-то из Германии, величественно прошествовавших по Ист-Энду от Тобакко-уорф, словно процессия судей. По пути они пели «Мессию» [57] и в шутку благословляли прохожих, которые встречали их аплодисментами. Удивленно воззрившись на них с головокружительной высоты, Малви пропел ответ, точно освобожденный раб:
Царь царей!
Господь господствующих!
Он будет царствовать во веки веков!
Но больше всего он любил язык Лондона, громкие фанфары города, который ведет разговор с самим собою. Итальянская или арабская речь здесь была не в диковинку; португальский и русский, цыганский и шелта [58], красивые печальные молитвы и хвалы, по пятницам на закате доносившиеся из синагог. Порой он слышал языки, названия которых не знал, столь странные и недоступные для понимания, что поневоле закрадывалось сомнение, языки ли это и найдется ли в мире хотя бы два человека, кто их знает. Жаргон ярмарочных торговцев, суржик путешественников, рифмованное арго ларечников, «потайные» словечки преступников, скороговорка букмекеров и шулеров, протяжный выговор изящных ямайцев, напевное произношение валлийцев и креолов. Все они заимствовали друг у друга: так дети меняются флажками; выразительный lingua franca, на который каждый волен заявить права. Точно множество народов из вавилонской башни хлынуло на окутанные парами зловония улицы Уайтчепела. Малви приехал из краев, где тишина постоянна, как дождь, и положил себе никогда больше не знать такого кошмара.
А цветистая речь кокни! Дерзкие, неряшливые ленты слов. Он часами слушал их болтовню на рынках и ярмарках Патерностер-сквер. Как же ему хотелось изъясняться так живо и остро. Он упражнялся в этом умении вечер за вечером, благоговейно переводил привычные тексты на это наречие:
Старый туз наш,
Который кантуется в Льюишеме,
Да гремит кликуха твоя.
Да кучерявится житуха твоя,
Да сладится скок твой В Боу и в Льюишеме.
Харч наш насущный даждь нам днесь
И прости нам фуфло наше,
Как мы прощаем легавым и марухам нашим
Их плутни (паскудам таким).
И не подведи нас под монастырь,
Но избави нас от всякого шухера.
Да будет твоя малина, феня и фарт,
Пока мамаша не выйдет из кутузки. Аминь.
Больше всего он полюбил размышлять о жаргоне преступников. В английском столько же слов, обозначающих воровство, сколько в ирландском названий водорослей или чувства вины. С точностью, строгостью и самое главное — поэтичностью они разделили язык воровства на подвиды, будто замшелые грамотеи, нарекающие бабочек. Каждой разновидности воровства нашелся свой глагол. Виды хищений, о которых он прежде не подозревал, явились ему поначалу в облике дивных слов. Базаровать, байданить, бегать, бить по ширме, блочить, бондить, брать на характер, вертануть угол, взять сонник, гнать марку, делать чистые, заделать хату, запалить, запороть медведя, ковырять скок, куропчить, ломать, молотить, наворачивать, подрезать, пускать шмеля, работать по рыжью, тибрить, торговать, ходить по огонькам, шустрить. Воровская речь в Лондоне звучала как танец, и Малви танцевал по городу, точно герцог.
В начале было Слово, и Слово было Бог. Малви обожал эти глаголы, их шипящее великолепие, их величественную музыку с его коннемарским выговором. Он украл тетрадь и принялся их собирать. Исписав одну, украл следующую, побольше. Так в детстве он изучал словарь. Эта тетрадь стала его Библией, энциклопедией, паспортом и подушкой.
Он ходил по шумному городу, как Адам по Эдему, и, благодарно протягивая руку, срывал плоды. Но не додумался бы совершить предсказуемого греха, дабы за алчность его не изгнали из рая прямиком в Ньюгейтскую тюрьму. Он воровал лишь то, в чем испытывал потребность, но не больше. Жадничать нет ни смысла, ни нужды.
Ему нравилось воровство. Оно грело ему душу. Внушало чувство, которое прежде ему дарило лишь пение: головокружительное ощущение мастерства. Жить воровством значило кормиться своим умом — участвовать в свободной торговле рынков и переулков.
Он рядился в изысканные одежды фартового ист-эндского молодца: алые жилеты, широкие галстуки, гамаши, сюртуки с бархатным воротником и брюки на пуговицах — мундир, объявлявший всем, что перед ними вор и лучше держаться от него подальше. Не воровал Малви только одно: одежду. Потому что краденое могло и не подойти. У еврейчика-портного он оставлял суммы, которых в Коннемаре хватило бы на полгода аренды земли. Ладно скроенный костюм еврейчик называл на идише «шматой», а дурно одетого человека — «шмоком» (буквально — «срамной уд»). Прошли те дни, когда Пайес Малви ходил как шмок. Грабители в Ист-Энде не стыдились своего ремесла: их не осуждали, а ставили детям в пример — мол, эти не упустят своего. В Лондоне слагали песни о преступниках, разбойниках с большой дороги, грабителях, карманниках, медвежатниках, блиставших в столице, точно золотая жила в навозной куче. Имена их произносили благоговейно, будто имена святых. Жулик Сэл. Мошенник Джо. Скупщик краденого Айки Соломоне, в тридцать первом сбежавший из Ньюгейта. Одевались они в подражание классу, который ими правил. Казалось, самый их облик говорит: «Берегись». Однажды этот господин снимет с тебя костюм и сам в него облачится. Однажды император останется без одежд. Мы станем вами. А вы станете нами. И тогда поглядим, надолго ли вас хватит.
Даже в поражении они сохраняли благородство манер. На виселицу ехали в серебряных экипажах с упряжкой из шестнадцати жеребцов, в сопровождении свиты ливрейных лакеев и плачущих женщин, чьи платья были усыпаны драгоценными камнями. Главное не то, что вор идет на смерть, а то, что он встретит ее смело, несломленным, надменным. Такой уход требовал чувства момента, которое большинство из них вырабатывало годами. Впервые увидев казнь, Пайес Малви позавидовал приговоренному, который, поднимаясь на эшафот, разбрасывал в толпу розы, словно актер. Одну руку упер в бок, вторую приложил к уху, точно никак не мог расслышать лихорадочные аплодисменты и, буде они не усилятся, отменит спектакль.
Обшаривая карманы неистовствовавших зевак, Фредерик Холл поклялся себе, что однажды им будут восхищаться так же, как этим обаятельным висельником, корчащим недовольные гримасы.
Когда легкая воровская жизнь ему прискучивала, он пробавлялся уличным пением. Поначалу пел голуэйские баллады, но в Лондоне они не снискали успеха. Публика находила их скучными или унылыми и не желала платить за то, чтобы на нее наводили скуку или уныние. Мрачные песни в Уайтчепеле не жаловали. Там хватало своего мрака.
Тогда он попытал счастья с песней собственного сочинения, балладой о сержанте, который вербует рекрутов и которому в Коннемаре дали от ворот поворот. Исполнять ее в первоначальном виде вряд ли следовало, но если чуть-чуть переделать и изменить кое-какие факты, пожалуй, она способна снискать певцу ужин. За вечер-другой Малви перекроил текст, расшил его галунами названий улиц и плюмажем лондонского арго, убрал все, что навевало грусть или кричало об Ирландии. Подобные переделки ничуть его не смущали. Из голуэйских обносков он смастерил щегольской ист-эндский наряд. Закончив подворачивать и сметывать швы, наутро поспешил на рынок в Бетнал-Грин и пропел свою песню четырнадцать раз кряду с ист-эндским выговором, который с каждым днем выходил у него все лучше.
«Паршивый кокни», — процедил проходящий миме констебль. Фредерик Холл счел это комплиментом.