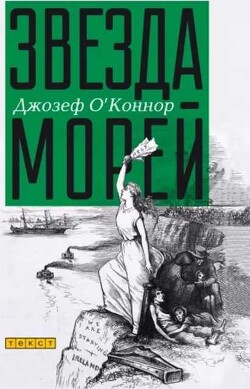Он начал выступать соло: сценой ему стал тротуар, и каждый день Малви играл новую драму. Он гордился широтой своего репертуара, неисчерпаемыми силами и еще тем, что совершенно не нуждался ни в труппе, ни в реквизите. Каждое утро он выходил на улицу, игрок, чьи шансы на выигрыш ничтожны и чье единственное оружие — воображение. Порой он представлялся обедневшим моряком, воевавшим с французами, порой убитым горем вдовцом, вынужденным кормить семерых детей, сапером, пострадавшим от ужасного взрыва, бывшим хозяином цветочной лавки в Челси, которого жестоко обманул бессовестный компаньон. Когда он плел эти небылицы, женщины плакали. Мужчины умоляли его взять их последние пенни. Зачастую эти рассказы оказывались столь убедительны, что ему самому случалось пролить слезу.
Прочие люди трудной судьбы. работавшие в этом районе, пеняли ему за жадность и за то, что он портит всю картину. Поделить сферы влияния он отказался, и тогда один из них настучал на него полиции. Убедить судью оказалось гораздо сложнее, чем прочую публику. Фредерика Холла признали виновным в наживе посредством мошенничества и приговорили к семи годам каторжных работ в Ньюгеите. По прибытии в тюрьму его раздели донага и тщательно обыскали, заставили нагнуться, заглянули в задний проход, обрили наголо, окатили из шланга, после чего его осмотрел врач и признал здоровым. Потом Малви посыпали порошком, который якобы убивал вшей, и велели проглотить селитру: по уверению надзирателей, она усмиряет естественные желания. После того как он отказался глотать, его привязали к стулу, вставили в рот воронку и высыпали селитру ему в глотку. Затем, обнаженного (окровавленное полотенце не в счет) заковали в цепи и повели в чугунные ворота, по беленым коридорам, по железным лестницам в кабинет начальника тюрьмы. Заместитель начальника с ласковой улыбкой дядюшки-растлителя малолетних прочел заключенному Холлу и еще двум новичкам нотацию. На столе его стояла табличка со спорным утверждением: «Мы должны перестать творить зло и выучиться творить добро». Наверняка они слышали всякое о Ньюгеите, сказал помощник начальника, но верить в эти россказни не след. Заведение это предназначено для того, чтобы им помочь. Ведь порой наказание — проявление глубочайшей любви.
Камера, в которую поместили Малви, представляла собой семифутовую клетку с матовым оконцем не более носового платка. Сквозь засаленную решетку пробивался лунный свет. Малви опустился на пол и принялся считать черные кирпичи. На сотом раздалась команда «отбой», и то, что он принимал за лунный свет, тут же погасло. В его коридоре послышался затихающий стук дверей: так захлопывают двери поезда, который вот-вот отправится. По босым ногам Малви прошмыгнул кто-то маленький и с хвостом. Вскоре раздался крик: эхо доносилось с нижних этажей. Малви не понимал, почему кричат: какой в этом толк? Лишь на следующий день он узнал, в чем дело. Заключением в камеру дело не ограничивалось. Начальник тюрьмы держался прогрессивных взглядов.
К одиночеству в камере по ночам Малви оказался готов. Уединение пронизывало всю его жизнь в Коннемаре. Поразило его другое — изоляция не кончалась и днем. Начальник тюрьмы исповедовал идеи, согласно которым общение с им подобными дурно влияет на заключенных: закоренелые злодеи развращают тех, кто всего-навсего сбился с пути истинного. Любое общение оказывалось под запретом, даже с надзирателями и с инспекторами из попечительского комитета. Человеческие отношения — враг реформ, нехристианская жестокость по отношению к узникам, чье положение и без того плачевно, а следовательно, и к обществу, в которое они, быть может, однажды вернутся. Перед прогулкой и перед работой на всех заключенных надевали черный кожаный капюшон — и лишь после этого их выводили во двор. Сквозь крохотные прорези в маске можно было разглядеть дырочки, через которые узник дышал; на шее капюшон крепили ошейником с висячим замком: поднимешь руки над головой, и ошейник тебя удушит. Но самое главное — капюшон скрывал лицо, и узники не знали, с кем из товарищей по несчастью дробят камни и крутят мельницу топчанку, дабы перестать творить зло и выучиться творить добро.
Самые прогрессивные из надзирателей распускали слухи, что и они сами порой надевают маски: ни когда не знаешь, кто трудится рядом, кто кричит и размахивает руками. Действительно ли это агония или только притворство? Дм того, кто перевоспитался, это было одно и то же. Малви понимал, что разговоры запрещены: провинившихся ждет порка. Если надзиратель услышит, что заключенный разговаривает с другим заключенным, за каждое произнесенное слово нарушитель получит пятьдесят плетей. Если не исправится или по глупости повторит проступок, остаток срока будет отбывать в карцере. В лишенном окон чреве Ньюгейтской тюрьмы были люди, по пятнадцать лет не видавшие ни одного живого существа. Ни узника, ни надзирателя, ни даже крысы: стены их камер были такие толстые, что никому не пробраться, и в любой час дня там царил мрак. Узников держали порознь даже в церкви. Каждый преклонял колена в собственной кабинке, из которой виден лишь крест над алтарем, а больше ничего. Однако же здесь заключенным дозволялось петь и молиться, поэтому службы посещали охотно, хотя в церковь силком никого не гнали.
Малви был на хорошем счету. Он не причинял начальству хлопот, ни на что не жаловался, и наказали его один-единственный раз — за то, что он произнес «Я вас не слышал»: ему всыпали двести плетей, и он выдержал это испытание по-мужски. Ночью, оставшись один в камере, он плакал, спина и ягодицы горели, поясница разламывалась от боли, однако ж он усматривал в случившемся маленькую победу. Когда с него сняли наручники и велели встать, он натянул штаны, надел рубаху из дерюги, подошел к надзирателю, который его высек, и благодарно протянул ему руку. От слепящей боли он едва видел своего мучителя. С трудом стоял на ногах. Но все же заставил себя сделать это.
Надзиратель, садист-шотландец, который нередко насиловал заключенных, дважды изнасиловал Малви и угрожал его выхолостить, изумленно пожал протянутую руку. Малви с напускным раскаянием закивал униженно и мелко. Он знал, что с галереи за ним наблюдает начальник тюрьмы и попечительский комитет, и рассчитывал произвести на них впечатление своей стойкостью. Выходя из зала наказаний, под самой галереей он сотворил крестное знамение. Одна из комитетских дам расплакалась от увиденного, точно перевоспитание, свидетельницей которого она стала, потрясло ее до глубины души. Дама, рыдая, упала в обморок на руки начальнику тюрьмы, и Малви понял, что выиграл битву. Дать себя выпороть без всякого возмещения не только не по-мужски: это воистину глупо.
Больше его никогда не пороли и вообще не наказывали. Напротив, ему стали давать небольшие привилегии. Он заметил, что надзиратели отпирают его дверь раньше прочих и оставляют открытой после отбоя. Однажды вечером ее вовсе позабыли затворить, и Малви закрыл ее самостоятельно, когда мимо проходил надзиратель — так, чтобы тот непременно это увидел. Узнав, что Малви грамотный, начальник тюрьмы велел снабдить его книгами. Сперва ему выдали Библию, потом полное собрание сочинений Шекспира. Заключенный Холл написал начальнику благодарственное письмо, не преминув заметить, что недостоин подобной милости и более ничего не просит. Через неделю ему прислали новые книги и керосиновую лампу, чтобы читать по ночам.
К тому времен и он понял кое-что важное об английских властях. Чем меньше просишь у них, тем больше получаешь.
Он целиком прочел Библию, потом всего Шекспира, басни Эзопа и жизнеописания поэтов Любимцем его тотчас сделался Мильтон: Малви прочел все двенадцать книг «Потерянного рая». Описание ада в первой книге — «куда надежде, близкой всем, заказан путь» [59] — напомнило ему полный страданий Ньюгейт. «Как несравнимо с прежней высотой, откуда их паденье увлекло!» Но больше всего его заворожил гром языка, пылкий марш величественных ритмов. Втайне он развлекался тем, что раздавал надзирателям имена мильтоновских демонов. Молох и Велиал, Асмодей и Ваал. Начальника тюрьмы он про себя окрестил Мульцибером, зодчим Пандемониума.