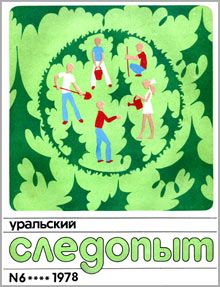Так незаметно для себя и стал Афоня самым ярым врагом спиртного. Пользуясь своим центровым положением в Купавиной, Афоня замечал каждого выпившего, непременно останавливал его и стыдил при всем народе как можно громче. А люди в таких случаях с полуулыбочкой говорили:
— Ну, дает Афоня! Этак и Завьялов услышит.
Парторга станции Александра Павловича Завьялова мужики побаивались, гуляк он не жаловал.
Некоторые страдали очень тяжело, поскольку Афоню никаким способом обойти было невозможно: магазин-то на всю Купавину один.
Конечно, пробовали поначалу обижаться на Афоню и даже вздорить с ним из-за его трезвых разговоров, называя их доносами. Но купавинские бабы в этом деле, как одна, стали на сторону сторожа. Такие скандалы устраивали мужьям за Афоню, что — при своей скупости — могли всю посуду дома переколотить, да еще и пригрозить:
— Не гляди, что венчанные: заберу ребятишек — и к маме в деревню!..
И кто знает, может, купавинские мужики и вовсе бы пить отвыкли, да война пришла и сразу все перевернула.
В тот выходной день — двадцать второго июня, — слушая радио, всё поняли враз, и ничего не понимали:
— Как это так? Разве мыслимо: так по-воровски мир нарушать?
А потом пронеслось:
— На вокзале митинг!..
Все кинулись туда.
Афоня, покинув свою сторожку, тоже пришел на митинг. Одной рукой опершись на суковатую палку, другой придерживая ухо старенькой всклокоченной ушанки, он вытянул шею, стараясь не пропустить ни слова. Сквозь тревожный гомон толпы и бабье оханье от высокого станционного крыльца до него доносились горячие слова секретаря парткома Завьялова, говорившего о подлом нападении, о неминуемых тяготах, которые наступят и которые надо вынести. А потом над затихшей толпой послышался басовитый голос Ивана Артемьевича Кузнецова, который потребовал записывать в добровольцы и назвал себя первым.
Выбравшись из толпы, к Афоне подскочил Степан Лямин, крутнулся на своем костыле, с маху саданул себя по боку скомканным в кулаке картузом и воскликнул радостно.
— Глянь-ка, Афоня! Мужики-то наши чистые ерои! Никто не испужался, язвить их в печенку! Да нечто устоит против них какой-то Гитлер?
— Не устоит, Степан, нет! — не отрывая взгляда от крыльца, ответил Афоня.
— Изломают ему позвоночный столб!
— Изломают, Степан, изломают, — вторил Афоня, а у самого туманило глаза.
Никаких своих слов не мог сейчас сказать Афоня. И не оттого, что не было их. Слов было много, а мыслей еще больше, и потому слова, стиснутые ими, не шли с языка. Понял он, почувствовал сразу, что в этот час жаркого дня с ослепительным солнцем, выбелившим землю, враз повернуло жизнь в другую сторону.
Последним уходил он с опустевшей площади. Шел тяжело, потому что и ноги слушались хуже, а палка стала тяжелее, будто не на солнце лежала около сторожки, а мокла с весны в воде.
Когда вечером вышел на дежурство, Купавина поразила непривычной тишиной. И только потом понял: в домах не засветилось ни одного окна.
Недвижно сидел на завалине магазина. И слышал, как на путях, утонувших в темноте, вместе с ним изредка вздыхал паровоз.
Купавинская ребятня спозаранку до глубокой темноты толклась на станционном перроне, встревоженно, нервно встречая каждый воинский эшелон. Солдаты в помятой и залосненной форме вываливались из пошарпанных товарных вагонов, торопливо бросались с ведрами за кипятком, либо курили толстые самокрутки, привалившись к жидкой оградке привокзального сквера, либо угрюмо ходили по перрону, словно надеялись невзначай встретить знакомых.
Но выпадало и другое: на станцию вдруг влетал торопливый эшелон. Останавливался на несколько минут, словно переводил дыхание, и, тревожно взревев гудком свежего паровоза, приемисто набирал скорость, оставляя на перроне зачарованно распахнутые ребячьи глаза и рты.
— Ребя! Заметили, шашки-то какие! — с придыхом нарушал тишину первый.
— Чуть не до земли! Во — сила!
— А кони!..
— И все ремни блестят!
Когда же видели зачехленные пушки, а то и просто счетверенные пулеметы, уставившиеся вверх над крышами тормозных площадок, немели надолго, провожая грозную силу взглядом до самого горизонта.
А-потом гадали, через сколько дней наступит полный разгром врага.
Даже про Афоню забыла ребятня. А он все по-прежнему сидел днями на приступе своей сторожки. Только не появлялось уже перед ним ни табуретки, ни чайника. Лишь сиротливо стоял чурбачок для случайного гостя. Да и прежних Афониных бесед уже никто не слышал. К нему по привычке изредка заходили некоторые мужики, неторопливо скручивали цигарки, со вздохом докладывали новости:
— Помнишь, к дедушке Стукову за месяц перед войной сын приезжал из Брест-Литовска? Командир?
— Как не помнить? — отзывался Афоня.
— Ну-к, вот. Говорил он вроде, что у этого Гитлера давно уж камень-то в кармане лежал. Видели, значит… Теперь вот по книжечкам кормиться зачали. Кабы не надолго…
— Кабы не надолго, — с той же озабоченностью соглашался Афоня. — Но силу собирать надо.
— И так не мешкают. Вон, что прет, — кивал собеседник на станцию. — Ребята здоровые едут, управятся!
— Знамо дело, — серьезно поддерживал Афоня. — А все одно жалко молодых-то. Смерть, она для всех смерть, хоть и примут ее в праведном бою со светлой душой…
Беды по-настоящему пока никто не чувствовал. Мужики все еще всерьез обсуждали временное отступление, уверенно назначая скорые сроки победы. Новобранцы оглушали привокзальный сквер плясом да песнями, принародно тискали и целовали вспухших от слез невест. И только по второму месяцу, когда мобилизация, считая и добровольцев, увела на фронт половину женатых и детных мужиков, станция притихла. А в сентябре услышали и первый вдовий вой: пришла похоронка.
Война доходила до Купавиной по-своему. В заросший полынью, давно заброшенный деповский тупик, где стояло несколько ободранных потушенных паровозов, затолкнули воинский эшелон. Через сутки он оброс лестницами-времянками, поленницами дров, сложенных на тормозных площадках и под вагонами, задымил железными трубами. С открытых платформ сошли гусеничные тракторы, с грохотом сползли с невысокой насыпи и врезались прямо в картофельные огороды за станцией, разворачивая все. Кинулись вслед за ребятишками бабы, не зная, то ли реветь, то ли ругаться. Но солдаты объяснили виновато:
— Путей добавляем, тетеньки. Мала ваша станция для военной дороги. Надо…
— А картошка-то?..
— Другой овощ требуется Гитлеру, — отговаривались солдаты. — А вы тут уж как-нибудь…
Не прошло и месяца, как тяжелые эшелоны пошли на новые пути, а к перрону все чаще стали подтягиваться санитарные, с заклеенными крест-накрест окнами, словно и сами были ранеными. В тамбурах появлялись усталые санитарки. Спрашивали: далеко ли до Омска, Новосибирска, Читы, — и озабоченные безмолвно исчезали за дверями.
Иногда к ним успевали подбежать женщины, приехавшие в Купавину из деревень на целый день. Они бросались от вагона к вагону и, срываясь на крик, спрашивали:
— Федора Голощапова нету у вас, родимые?
— А Николая Слезина?
— Нету, тетеньки.
И бабы, захлебываясь слезами, шли рядом с отправляющимся поездом, тоскливо глядели ему вслед.
Афоня стоял в стороне, задумчиво провожая составы, и старался постичь войну. В доброе время все население Купавиной легонько бы уселось в один пассажирский поезд. А теперь вот такие переполненные поезда идут друг за дружкой по разным дорогам.
Какая же она там, война? Сколько же берет она насовсем и сколько калечит?
И не мог представить.
Прошел сентябрь. Солнце по-прежнему дарило светом, но все чаще набегал холодный ветерок, а ночью коченела под седым инеем земля. Школьные заботы призвали старших Афониных друзей к своим делам, а других — помельче — матери заперли по домам, чтобы через обманную погоду не подхватили сопливую хворь. После работы и в выходные купавинцы спешили управиться на огородах, перебрать и опустить в ямы картошку, насолить капусты, запасти топлива, загодя вывезти сено.
Только делалось это все торопливо, без веселья и радости, которые в прошлые годы и соседей мирили, и скрашивали осень. Ни песен, ни шуток, ни гулянок с устатку.
А осень, одаренная бабьим летом, увернувшаяся от затяжного ненастья, щедро расправляла свой разноцветный наряд. Первыми вспыхнули фальшивой позолотой осинники. Но бойкий ветер живо распознал их ненадежную красоту, в неделю сорвал большой некрепкий лист и разнес его по ближайшим пара́м на утеху зайцам.
Дольше месяца бушевала осень. Но под северным ветром дрогнула однажды золотая кольчуга веселых березников. Всему свой черед. Не прошло и недели, как облетели березы. На утеху дикому ветру остался на дорогах лишь соломенный мусор, пока холодные дожди не прибили и его, не смешали с грязью колесами телег да конскими копытами. И тогда неугомонный ветер заметался над людским жильем, озоруя ночами по печным трубам, то ухая филином, то мяукая по-кошачьи.