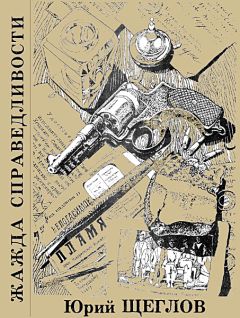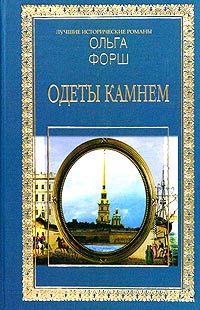— Вон в Пудоже, слух есть, кухаркиных детей в училища посылают, а чем мы хуже?
— Акушорки в городе осмотры больным производят, а чем мы хуже?
— Ликбез создали, книжки бесплатно раздают, а у нас как была, так и есть темнота без просвета!
Вдобавок женщины вдруг принялись настаивать на выдаче хранящегося в амбаре семенного зерна подушно, что равносильно разорению. Они заподозрили, что хлеб или дезертиры сожгут, или он исчезнет каким-нибудь неугаданным способом, но в том, что хлеб вскорости обязан исчезнуть, никто не сомневался. Крюков женщин, а больше старух всегда жалел, но теперь с горечью убедился, что страшней и сварливей истощенной бабы никого нет на свете. Отсюда, из сугробов Заостровской волости, прежние его неурядицы виделись малозначащими. Прав Скоков: кто женскую проблему упускает, тому крышка.
Поразмыслив, он вечером велел своему спутнику комбедовцу Федору Апулину пробираться обратно в уезд и пригнать оттуда хлебный обоз. Ведь разбазаривание семенного фонда грозит голодом и неминуемой смертью без всякого прапорщика Битюгова.
До поздней ночи на площади трещали и хлопали громадные костры. И сто, и двести, и триста лет назад, когда недовольство выхлестывало наружу, к небу каждый раз вздымалось окаймленное траурной копотью пламя. Оно предвещало приближение кровавых событий. Языки костров казались Крюкову немыми криками отчаявшихся душ. В течение двух дней к митингующим присоединились крестьянки из окрестных деревень. Споры то угасали, то разрастались, но раздражение не спадало, и Крюкова грубо, чуть ли не с матом, каждый раз оттаскивали от рундука, когда он пытался туда взобраться.
Время текло, а костры не переставали трещать и хлопать на ветру. И на третьи сутки, и на четвертые, и на пятые Крюков с утра упрямо шел на площадь, в конце концов приучив женщин к появлению представителя законной власти. Как-то в сумерках его, окоченевшего и одиноко маячившего поодаль, старухи позвали — разрешили выступить. Понравился им настойчивостью и незлобивостью. Наганом не размахивал, как иные. Однако призыв послать делегаток на слет толпа по-прежнему восприняла с недоброжелательством. Не вняла и увещеваниям немедля разойтись по избам, чтоб сварить баланду оголодавшим мужикам. Слабенькая надежда, что женщины покинут площадь и погасят костры, забрезжила только тогда, когда Крюков предложил себя в заложники до той поры, пока не возобновятся курсы кройки и шитья, а норму выдачи хлеба волисполком не увеличит вдвое против нынешней. Кое-кто действительно поспешил домой, но кое-кто замялся, зачинщицы не позволили уйти.
— Не сбивай нас с панталыку, следователь! Отпускай хлеб немедля! — неистовствовала коренастая женщина в волчьем малахае.
«Коренастую придется изолировать, — мелькнуло у Крюкова. — В ней корень. Но как?»
— Хоть раз наедимся досыта, иначе не миновать тебе беды!
— Пойдем в амбар и возьмем сами! Правда, бабоньки? — Коренастая призывно взмахнула кочергой и ткнула в сторону коллективного зернохранилища.
Прямо героиня французской революции Теруань де Мерикур.
— Дорогие вы мои женщины, — взмолился Крюков, беспомощно протягивая руки и ища глазами сочувствия, — мы с вами только что… Разграбите амбар — чем поля засеете? Это же голод, смерть! Я стрелять буду!
— Нам одинаково судьбы не было и нет, что тут, что в избе, — громко выплеснула цыганистая крестьянка, сдернув на затылок повязанный до бровей платок и протискиваясь к рундуку. — Что ты нам головы морочишь про равность полов да про социализм?
Она смотрелась еще не пожилой, черные очи искрились, в резких, порывистых движениях была неуловимая привлекательность.
— Разве нас брюхатить прекратят по твоему велению, следователь? — к цыганистой примкнула худенькая в расстегнутом тулупе, из-под которого пламенела ситцевая кофтенка.
Женщины зло заверещали, соглашаясь с зачинщицами. Быстренько настроение перевернулось. На смену прежним — вполне разумным — претензиям выдвигались новые — непонятные.
— Вон Дашкин муж от дружков приволокется пьян-пьянехонек и давай, и давай ее тиранить. Я, мол, тебя брюхатил и еще брюхатить буду, чтоб ты в кружок не удирала, — продолжала цыганистая, — мне Советы не помеха…
— С брюхом по колено, чай, не очень побежишь, — опять поддержали ее.
— Подумаешь какой енерал! Распорядился и удрал!
— Подавай хлеб! — заорала в исступлении цыганистая.
— Давай, такой-сякой, кружок или иди в мою… — Коренастая в волчьем малахае с непостижимой деловитостью завернула юбку, поворотилась к Крюкову спиной, спустила штаны и похлопала ладонью по сухим коричневым от отблесков костра ягодицам, похабно изогнувшись. — Что губы распустил, слюнтяй!
— Ах-ха-ха, Катерина, туда его, голопупого!
Крюков насунул фуражку пониже на лоб, застыдившись. Черт побери, без году неделю служит, а уж насмотрелся срама до тошноты. Какое-то горчайшее ощущение, похожее на обиду, сжало горло. То, что перед ним обнажали, было уродливым и неженским, то есть не принадлежавшим человеку. Он старался не смотреть, как коренастая поправляла штаны и одергивала подол. Затем она выпрямилась, сверкнула недобрым огнем и усмехнулась, но молча: знай наших, начальник, с нами не разгуляешься, не обманешь, враз окоротим.
Страшная штука — толпа! Между тем отчаянная выходка неожиданно повлияла на товарок. Симпатии передвинулись на сторону Крюкова, особенно после речей беззубо шамкающей старухи — она раньше остальных поманила Крюкова к рундуку.
— Опомнись, дочка! Парень юнай, тверезай, чать жить яму с жаной, деток рожать на радость, дак неча полоумничать.
Теперь старухи, отчасти державшиеся особняком, зашепелявили, зашипели:
— Неча… Неча…
— Неча, Катерина, матушкино казать!
— Он ить, из его кады лез, тады и видел.
Старух со смешком одобрили из задних рядов, и женщины начали потихоньку разбредаться умиротворенные.
Еще два утра подряд Крюков спешил на площадь к волисполкому, чтобы женщины не сомневались — он не скрылся, ждет обоз и жует по той же, что и они, голодной норме.
Когда Федор Апулин с хлебом подоспел и произвели выдачу, Крюков собрался в обратный путь. Ржаная мука укрепила веру в следователя и надежду на скорое возобновление курсов кройки и шитья. Коптящие костры совсем погасли. Бабий мятеж утих, и прапорщику Битюгову нынче тут нечего делать.
Провожали Крюкова скопом. Правда, перед самой околицей лошадь все-таки взяли под уздцы. Крюков испугался — не за себя, конечно. Он привстал в санях и спросил ласково:
— Ну что, дамочки, мнетесь? Чем вам опять, милые, не угодил?
Женщины открылись, почему мнутся. Чей-то голос под хохоток скороговоркой пропел загадочно:
— Я и со своим целоваться не желаю, а с Валькиным или Дашкиным подавно…
Крюков уловил намек, обрадовался. В поднятом вопросе у него дорожка накатанная, ответ готов. Опасения гражданок пустяковые. Власть не собирается обобществлять женщин. Никаких коммунальных общежитий длиной в три версты никто строить не намерен. Поганые сплетни распускают враги, дезертиры и агенты Антанты. Хозяйство и культура — проблемы серьезные, тут горизонт коммунальной жизни необозрим. А семейный очаг неприкосновенен. Вмешательства не предвидится. Женщина ровня мужчине без всякого дурацкого обобществления, от чего власть ни на шаг не отойдет.
— Ну если не отойдет, то и по домам, бабоньки!
Сани мотало из стороны в сторону. Глубокая дрема мягко подкрадывалась к нему. Он отдался ей, не сопротивляясь, со сладостным томлением, привалившись к плечу Апулина и забыв о подстерегающих впереди невзгодах.
— Нет, Федор, мы обязательно построим республику, и женщина в ней станет независимой и получит достойное место, — прошептал мечтательно Крюков, проваливаясь в сон.
— Дай-то бог, — ответил, вздохнув, Апулин, занимавшийся в комбеде антирелигиозной пропагандой.
«Ныне ехать мне в Петроград считаю нецелесообразным, — писал Крюков в очередной ориентировке, отвечая на требование Скокова возвратиться. — Я в провинции нужнее. Весной конфликты обязательно разгорятся почти повсюду. Недавно довелось вытащить из кармана наган. Не большой охотник я играться им, но не выдержали нервы. Даже взвел курок.
По пути из Заостровской волости, где ликвидировал мирными средствами женское волнение, я встретил подозрительные сани, то есть двух мужиков с грузом. Интересуюсь: куда везете и что везете? Зерно, объясняют, и далеко, на продажу. Почем берете? Они не шутя цену такую заломили, что я присел. Им землю декрет дал? Дал. Они весной ее обработали? Обработали. Урожай летом сняли? Сняли. Никто бы им так, в мире, за здорово живешь, землицы не дал, кроме нас. И эсеры в том числе. Чем же богатеи, а кое-где и середняк, отплатили? А ничем! Покупай по свободной цене на рынке. Государство и беднота им тьфу! Одолжить не соглашаются в кредит, обменять на товар тоже не желают. Кричат: галоши мы и на бумажки в городе купим. Вот они как к нам обернулись, к тем, кто декрет им долгожданный дал.