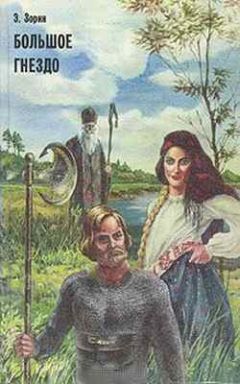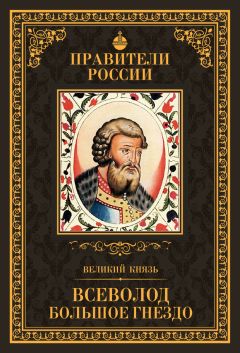— Как Веселицу водила, как отворяла ему врата обители в полночь-заполночь, — говорила за нее Пелагея.
— Отворяла ли врата? — допытывалась игуменья.
— Дык я ведь…
— Отворяла, сказывай?!
— Отворяла, — созналась баба и спешно перекрестилась. Лицо ее стало маленьким, с кулачок, — почернело, усохло, покрылось мелкими морщинами. И вся она осунулась и обмякла, так что одежда вдруг словно повисла на ней, как на огородном пугале.
— Не вели гнать, матушка! — вдруг завопила она, падая на колени. — Бес попутал. Явился во образе смиренной монахини, речьми сладкими совращал, услаждал слух мой серебром и златом.
— Единый ли раз отворяла Веселице врата, сказывай? — продолжала, как и прежде, неподвижно сидевшая Досифея.
— Многожды, многожды отворяла, — лбом колотила в половицы баба. — Прости заблудшую, матушка!..
— Бог простит, — сказала игуменья. — Изыди.
— Ась?
— Изыди, говорю, — повторила игуменья.
Баба еще раз приложилась лбом к половицам, встала и, часто моргая глазами, попятилась из кельи.
— Эй, погоди-ко, — остановила ее игуменья.
— Что велишь, матушка? — сминая в руках подержанный плат, вся обратилась во внимание баба.
— Про то, что была у меня, никому не сказывай, — строго-настрого наказала игуменья. — Феодоре не обмолвись.
— А я уж было в тебе изуверилась, — сказала она Пелагее, когда баба вышла. — Думала, из зависти наговор, а вот оно как обернулось. Знать, и меня ввела Феодора во грех. В смирение ее поверила, приблизить хотела…
«Вовремя я обмолвилась», — подумала Пелагея со злорадством.
— Нынче бы их не спугнуть ненароком, — забеспокоилась игуменья. — Как бы чего не пронюхали…
— Словечко-то промеж нас сказано. Упреждать Феодору некому, — успокоила ее Пелагея.
Взгляд у монахини прямой и преданный. Движенья легки и вкрадчивы. Голос понижен до шепота.
Ближе к вечеру наведалась она к Феодоре. Вошла неслышно, остановилась на пороге.
Феодора, не видя ее, по буквам, вслух, читала Евангелие. Прикусывая губы, старательно водила по книге пальцем, морщилась и сердилась на себя — плохо давалась ей грамота, да и мысли были далеко: близился назначенный час — скоро появится Веселица. До книги ли ей, когда сердце исполнено трепетного ожидания!..
Тонкая свеча на столе издымилась, ветер, задувавший в щелястое оконце, полоскал узенькую каемку пламени.
Стоя в дверях, Пелагея невольно залюбовалась Феодорой — хоть и в иноческом смиренном одеянии, а была она дивно хороша. Лицо — как спелое яблочко, брови вразброс, будто ласточкины крылья, светлая прядка волос выбилась из-под платка, затенила белый, как у боярыни, без единой складочки лоб.
Пристальный взгляд ее оторвал Феодору от книги и сладких дум. Ресницы ее дрогнули и, приподнявшись, отворили синь-глубину прекрасных доверчивых глаз.
— Ах ты, касаточка моя, — молвила Пелагея, бесшумно подступаясь к Феодоре. — На дворе-то месяц в снегах полощется — такая благодать!.. А ты сидишь, пригорюнилась, на лице печаль…
— Нечего мне печалиться, — ответила, пытаясь подняться, Феодора, но рука Пелагеи надавила ей на плечо. — Да нездоровится что-то.
— Уж не жар ли у тебя? — забеспокоилась монашка, прикладывая ладонь Феодоре ко лбу. — Горишь вся, спасу нет… А ну-ка, глянь сюды.
Но глаза Феодоры были чисты, а в прищуре еще и лукавы. Смешинка плавала в глубине зрачка.
«Радуется, — подумала Пелагея. — Час назначенный недалек…»
— Прилегла бы ты, отдохнула, — посоветовала она Феодоре. — К утру-то все и пройдет… Кваску бы испила.
«Не обмолвилась баба», — успокоенно думала Пелагея. Глядела на Феодору с нежностью. Ворковала в ушко.
— Да что это нынче с тобой? — удивилась Феодора.
— Весною снега запахли. Солнышко-то вычернило санный путь — скоро зиме конец…
О весне ко времени говорила Пелагея. И всё в глаза Феодоре заглядывала, всё в глаза.
Отстучало на дворе медное било — вздрогнула Феодора, со страхом поглядела на Пелагею. А ей только того и нужно, только взгляда этого она и ждала.
4
Кто скажет, на какой излучине, на каком повороте дороги ждет человека счастье? Иной раз кажется, беда накрыла тебя черным крылом — и нет просвета. Но вдруг пойдет валить удача — уж и некуда вроде, а она всё прет и прет…
Веселице же на этот раз с самого начала только не везло.
Последняя была у него ветхая сермяга — и та ночью у печи прогорела: пали на нее с очелка случайные угольки. Стал кобылу седлать — лопнула подпруга.
— А, чтоб тебя! — выругался Веселица и сел, пригорюнясь, на пенек. Мисаил в ту пору из лесу еще не вернулся — ушел пострелять зайцев, да припозднился что-то. Солнышко на ночлег собралось; из чащи потянуло холодком — не выбраться нынче Веселице к Феодоре: лыжи-то старец с собою прихватил.
Сидел Веселица на пеньке, почесывал затылок, но ничего хорошего не выскреб. И такая взяла его тоска, что выть захотелось. Все ему здесь опостылело, ни на что бы глаза не глядели.
Ломал он себе голову, что бы такое выдумать. А выдумывать ничего и не надо было. Ежели бы выдумал, то еще бог знает, как бы все повернулось. Досифея-то слов на ветер не бросала — ждали уж его на монастырском дворе нанятые мужики с кольями, баба-вратарь поглядывала на дорогу с нетерпением: хотелось ей выслужиться перед игуменьей, тяжкую провинность свою смыть чужой кровушкой…
Ехал по лесу, по извилинам да по кочкам, заплутавший в чаще княжеский возок. В возке княжичи сидели, а по бокам от возка скакали Четка и Ратьшич.
— Сызнова тебя не в ту сторону понесло, — ворчал Кузьма, пригибаясь под отяжелевшими от снега ветками.
— Куды ж ее увело? — дивился Четка, всматриваясь в нетронутый снег. — Была дорога — и нет. Сколь раз по ней проезжал…
— Послушался дурака — вот теперь и плошай, — сказал Ратьшич.
— Ничо, боярин, во Владимир и малая тропка приведет, — и себя и Кузьму успокаивал Четка.
По лесу расползались вечерние тени. Возок встал.
— Теперь куды? — спросил правивший лошадьми мужик.
Четка носом потянул воздух.
— Чо голову-то задрал? — разозлился Кузьма. — Ты под ноги гляди: аль не видишь, что забрались в болото?
— Дымком, кажись, нанесло, — сказал Четка. — Эй ты, — обратился он к мужику, — нет ли тут жилья поблизости?
— Жилье-то есть, — отвечал неторопливо мужик, — да место гиблое… Куды ни сверни, везде топь да вадеги.
— Нешто и дороги никакой нет?
— Как же, есть и дорога. Чуть ране свернули бы — тут тебе и Мисаилова изба. Да нам-то почто к отшельнику?
— Не твое дело, — сказал Ратьшич. — А ну-ка, поворачивай.
Свернули на тропинку. Недолго покувыркались на сугробах, выехали в реденький березнячок. Сквозь белые стволы вдали завиднелась избушка. Кони покорно объезжали молодые деревья. Увязая в снегу, возок мягко кренился, полозья с трудом продирались сквозь белые буруны.
Кузьма Ратьшич с Четкой, обогнав возок, первыми выехали на поляну. Возле избы на пеньке сидел грустный парень.
— Ты кто такой? — сдерживая коня, наехал на него Ратьшич.
Вскочил Веселица с пенька, захлопал глазами: сон это или явь? На всякий случай сдернул с головы шапку.
У коня пар идет из ноздрей, всадник — в дорогом полушубке, на боку — меч, в руке — верткая плеточка. Одна бровь строго приподнята, другая приспущена; глаза смотрят насмешливо.
А как глянул Веселица на другого вершника, так и голоса лишился от испуга: признал он в нем того самого попа, у которого увел кобылу. А про то и запамятовал, что вытаскивал его из воды.
«Вот и пришло время расплачиваться», — подумал он, оглядываясь по сторонам.
— Ты головой-то не крути, — остерег его Кузьма. — Ты на вопрос мой честь по чести сказывай.
— Веселица я…
— А что ж не всел? — пошутил Кузьма, спрыгивая с коня и перекидывая через переднюю луку поводья.
Четка, позадержавшись в седле, глядел на Веселицу со вниманием.
— Слышь-ко, воевода, — окликнул он Кузьму.
— Чего тебе?
— А парень, кажись, мне знаком…
— У тебя кажный второй во Владимире знакомец, — сказал Кузьма, однако тоже пристально посмотрел на Веселицу.
— И кобылка мне знакома, — продолжал Четка. — И седло… То княж конь!
— Натрясло тебя, поп, — вот и привиделось.
Веселица медленно понятился за угол сруба.
— Кузьма! — заорал Четка. — Хватай его, не то сгинет в чаще!
Сам кубарем повалился с коня, бросился Веселице под ноги. Переплетаясь, покатились оба в снег. Сел Четка верхом на Веселицу:
— Теперя не сбежишь…
И — оборачиваясь к Кузьме:
— Вот он самый и есть, что Констянтина из Лыбеди вызволил.
— Да неужто? — радостно удивился Кузьма, подходя поближе. — Ну-ко, Веселица, сказывай подобру, ты ли это?