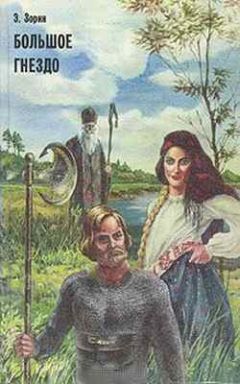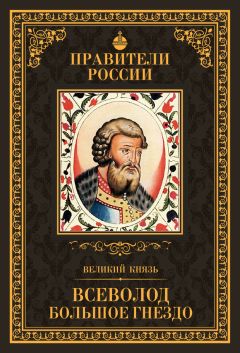— Куды как просто удумал ты, посадник, — улыбнулся Всеволод, снова опускаясь на столец. — Отколь ветер подул?
Мирошка вздохнул облегченно. Вздохнули и Иванок с Фомой. Никифор-сотский и Борис Жирославич остались стоять, как каменные. Мирошка сказал:
— Ниотколи ветер не дул. Самого только что осенило: будет у тебя в Новгороде свое неусыпное око.
— А ежели возвернешься ни с чем? — пригасил надежду Всеволод.
— Забросают новгородцы каменьями, — честно признался Мирошка. — Ни с чем возвращаться мне нельзя.
— Никак нельзя, княже, — впервые разинули рты Иванок с Фомой.
— Вона как ласково заговорили, — посмеялся над ними Всеволод. Помедлив, сказал раздумчиво: — Что до срока кручиниться? Слышь-ко, Кузьма, — оборотился он к стоявшему за его спиной Ратьшичу.
— Слышу, княже.
— Всё ли уразумел?
— Как не уразуметь, княже, — проговорил с ухмылкой Кузьма.
— Ну так исполни, что ныне скажу: посадника Мирошку Нездинича да Фому с Иванком из города не выпущать…
— Все исполню, княже, — с готовностью откликнулся Кузьма. — В поруб кинуть али ино повелишь?
Медля с ответом, Всеволод хитро прищурился. У Мирошки вытянулось лицо, Фома с Иванком испуганно отпрянули.
— Да где это видано, княже, чтобы послов кидали в поруб? — пролепетал посадник, беспомощно глядя на неприступного Кузьму.
— Какие же вы послы? — удивился Всеволод. — Послы приходят с княжеской печатью, а вы — сами по себе…
— Дары принял по обычаю, встречал, како предками заведено…
— Дары, Кузьма, вернешь с Борисом Жирославичем и Никифором. Пущай везут, откуда взяли. У нас и своих мехов некуды подевать.
— Срамишь не меня, княже, — сказал, укрепляясь в правоте своей, Мирошка. — Срамишь Великий Новгород.
— Ростов тож был великим, — осадил его Всеволод. — А нынче кто в нем сидит?.. Ничо, совладал с Ростовом, с вами тож совладаю. Ишшо под скомороший гудок напляшетесь. Ишь, за какой обычай взялись: того хощем, а тот нам не по нраву. Ровно девка на выданье, которая ото всех нос воротила да так и осталась вековухой. Мартирий, владыко ваш, превыше князя себя возомнил. Так я и тебе, Мирошка, и ему напомню: не я из вашей руки кормлюсь, а вы из моей!.. Не будет вам князя, окромя Ярослава.
Грозно говорил с вольным Новгородом Всеволод.
— Верно сказываешь, княже! — не утерпел просиявший Кузьма. — Будя им воду-то мутить.
— Ты вот что, — сказал Всеволод, отдышавшись. — Ты Мирошку-то с ентими в поруб не суй. Пущай ходят на воле. А приставь к ним Словишу — они старые знакомцы… И нынче же снаряжай гонца к Ярославу: ступай, мол, в Новгород — так Всеволод повелел.
Уходили послы с княжого двора будто в воду опущенные. Словом друг с другом не перекинулись. Только в отведенной им избе подле Волжских ворот очухались, когда уж Кузьма вышел и топот его коня затих на бугорке.
— Лихая грядет година, братья, — говорил Мирошка, кляня себя за уступчивость и за то, что падал перед Всеволодом на колени. — Плохо просил я князя, не с того конца начал веревочку тянуть, старый дурак.
— Полно виниться-то тебе, — успокоил его Фома. — Како ни тянул бы, всё едино бы вытянул. Не потому Всеволод упрямится, что плохо кланялись, а потому что задумка у него така: не тебя одного, боярин, зрит он на коленях, а всю нашу вольницу. И мыслю я, что ныне перечить ему срок не настал. Взбаламутил народ Ефросим, покачнул Мартирия, а окромя владыки опираться нам более не на кого.
— Вечер плач, а заутра радость, — вслед за Фомою принялся уговаривать Мирошку Иванок. — Перетерпим покуда — не год и не два еще простоит над Волховом Новгород. Не так уж много воды утечет, как все переменится. А покуда упрямиться нам нечего. Пущай Никифор с Борисом сами скажут слово на вече, пущай встречает народ Ярослава хлебом-солью. Переможем. Нам не привыкать…
Как пришел во Владимир обоз новгородский о ста возах, так и отправился в путь обратный. Сдержал свое слово Всеволод — не велел принимать даров. Сам следил, чтобы и шкурки беличьей где-нибудь не затерялось.
Отъехали новгородцы — и снова водворилась во Владимире благостная тишина.
Падали снега, заметали санные пути озорные ветры.
Скоро про Мирошкино посольство и думать все позабыли.
3
Сидя на низенькой скамеечке у ног Досифеи, Пелагея вязала носок и говорила елейным голосом:
— Праведна ты, матушка. Про то все вокруг сказывают. Была я давеча в городе, слушала, как про тебя в народе толкуют. Хорошим людям роток не заткнешь, а правда всё едино наружу вылезет…
— Да что же там такое про меня говорят? — спрашивала, улыбаясь, игуменья.
— Ох уж и как сказать, не решаюся, — вздыхая, отвечала Пелагея. — Добра, мол, и доверчива. Молитвами себя иссушает, за черниц вступается, в обиду не дает, а про то не ведает, что пользуются ее кротким нравом, что иные из монахинь, отправляясь в мир, за спиною ее творят непотребное…
Сказала — и замерла, глазами стриганула по лицу игуменьи, но тут же снова уткнулась в вязание. Быстро замелькали в ее руке спицы.
— Что-то мне невдомек, Пелагея, — сказала игуменья с досадой и нетерпением. — Яснее выразись, да покороче. О ком речь твоя?..
Пелагея вроде и смутилась.
— Языце, супостате, губитель мой, — пролепетала она, еще ниже склоняясь над вязаньем. — Забудь, о чем сказывала, матушка.
— Нет уж, постой, — возвысила голос игуменья, — веди, коли начала, до конца.
На добрую ниву упало, будто случайно роненное, зерно.
— Ослобони, матушка…
— Сказывай!
— Да мало ли что бабы говорят…
— Растопырила слово, что вилы, так не молчи, — донимала Пелагею игуменья. Всполошилась она, теперь не унять.
— Говорить беда, а молчать другая, — кротко промолвила Пелагея. — Про кого сказывать буду, тебе и невдомек.
— Уж не на Феодору ли возводишь хулу? — догадалась игуменья.
Тут и вовсе сделала вид, будто застеснялась, Пелагея. Уронила спицы, спрятала в руки зардевшееся лицо.
— Ой, что наделала-то я! — запричитала с раскаянием. — Како Феодоре погляжу в глаза?
— Врешь ты все, Пелагея, — с трудом проговорила игуменья. — Напраслину возводишь. Нет пропасти супротив завистливых глаз. Давно приметила я, что не по душе тебе Феодора.
— Слепа ты, матушка, по доброте своей, — пролепетала Пелагея. — Да будь что будет — все, как на исповеди, скажу. Лик у Феодоры ангельский, веришь ты ей — про то я знаю. Правду сказывает тебе в глаза, а о главном помалкивает. Ты ее допроси-ко с пристрастием, не слыхивала ли она чего про Веселицу?..
— Вроде знакомо мне имя сие…
— Как же, как же, — заторопилась Пелагея. — Не раз, поди, слыхивала. Купчишка был во Владимире, да весь вышел. Нынче у Мисаила обитается…
— Не он ли избу жег у Одноока?
— Про то не ведаю. А будто бы так, на торгу болтают… Далеко ниточка-то вьется.
— Озадачила ты меня, Пелагея, — растерянно пробормотала игуменья.
— Феодору-то призови… А еще лучше — бабу нашу, вратаря-то, потряси.
— Ее-то трясти почто? — удивилась Досифея.
— А как же? — уже не скрываясь, подливала масла в огонь монахиня. — Всё через нее и шло.
— Да неужто оскверняла Феодора обитель?! — так и привстала игуменья.
— Хаживал Веселица-то к нам на двор, хаживал…
Досифея задохнулась от гнева — экая срамота! А ведь едва не приблизила она к себе Феодору — хорошо, господь вовремя остановил.
— Кликни-ко бабу, — повелела она монахине. Пелагею словно ветром выдуло из кельи.
Явилась сторожившая монастырские врата высокая баба с костистым мужичьим лицом, поклонилась Досифее поясно. Глазки бегают затравленно, глядеть на игуменью не хотят.
— Куды воротишься, почто на меня не глядишь? — спросила Досифея.
— О чем ты, матушка? — притворно удивилась баба.
— Экая смирная какая, — сказала игуменья, — святее ангела…
— Загадками сказываешь, матушка, — прочистила горло баба. Не нравился ей ласковый голос игуменьи. Руки Досифеи хищно сложены на коленях, спина напряженная, прямая.
— Да уж не запирайся, сестрица, — проговорила стоявшая у двери Пелагея. — Чего там!
— А я ничего, — растерянно оглянулась на нее баба. Мужичье лицо ее вытянулось, над верхней губой выступили капельки пота.
— Ежели правду будешь говорить, то игуменья тебя, может, и простит, — сказала Пелагея.
Видать, не один только опознанный грех водился за бабой. Сморщив низкий лоб, она думала напряженно, беззвучно шевеля губами.
— Долго ждать-то ишшо? — спросила, теряя терпенье, Досифея.
— Дык я ведь… — потопталась баба. — Дык я ведь…
— О Феодоре сказывай, — помогла ей Пелагея.
— О Феодоре-то? — прищурилась баба. — Да что о Феодоре-то?..
— Как Веселицу водила, как отворяла ему врата обители в полночь-заполночь, — говорила за нее Пелагея.