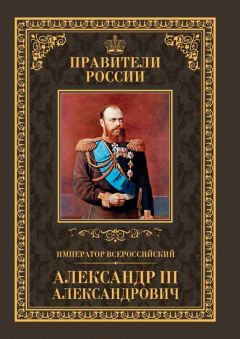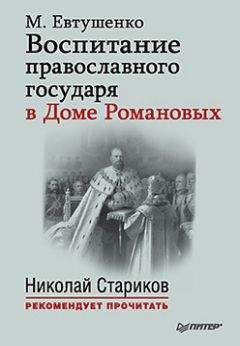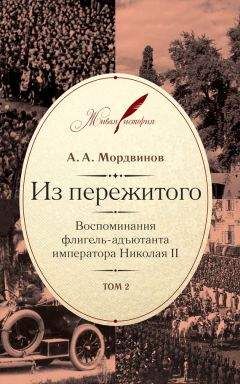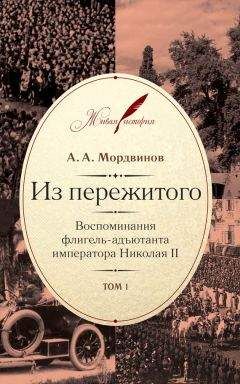Она сидела возле императора Александра Александровича и почти заворожённо слушала его.
– Я читал все статьи вашего мужа за последнее время, – своим мягким и глубоким, грудным голосом говорил царь. – Скажите ему, что я доволен ими. В моём горе мне было большое облегчение услышать честное слово. Он честный и правдивый человек, а главное, он настоящий русский, каких, к несчастью, мало, да и даже эти немногие были за последнее время устранены. Но этого больше не будет!..
– Слава Богу, ваше величество! – воскликнула Тютчева. – Как все мы, русские люди, ждали этого слова…
– Я сочувствую идеям, которые высказывает ваш муж, – продолжал государь. – По правде сказать, его «Русь»[137] – единственная газета, которую можно читать. Что за отвращение вся эта петербургская пресса! Именно гнилая интеллигенция! И они воображают, что теперь подходящий случай, чтобы ставить мне условия! Как бы не так…
– Воображаю, какой шум поднимет либеральная пресса по поводу речи моего мужа, – заметила Тютчева.
Император улыбнулся:
– Да, мне доложили об этом заседании. Я знаю все подробности от графа Игнатьева, который там был. Кое-кто нашёл неуместным, что он, будучи членом Государственного совета, присутствовал на заседании Славянского комитета. Но я ему сказал, что он хорошо сделал. Мне показали адрес, который мне должен поднести комитет. Я внёс в него некоторые изменения. Есть вещи, о которых в настоящее время преждевременно говорить. Да, кроме того, инициатива поэтому поводу должна исходить только от меня.
Александр Александрович, конечно, имел в виду идею созвать Земский собор. Тютчева заговорила о том горе и стыде, какие испытывает всякий русский при мысли о страшном преступлении – цареубийстве, ответственность за которое падает на всю страну.
– Нет, – живо возразил государь, – страна тут ни при чём. Это кучка негодных и фанатичных мятежников, введённых в заблуждение ложными теориями. У них нет ничего общего с народом. Теперь нужно позаботиться оградить школы, чтобы яд разрушительных теорий, проникших в высшие классы, не отравил массы простого народа. К сожалению, выяснилось, что Желябов, стоявший во главе заговора, – крестьянин. Мне прислали письмо другого террориста – Кибальчича. Это русский изобретатель, угодивший в преступную шайку, можно сказать, случайно. И в то же время – один из главных виновников злодеяния.
Император поднялся и с трудом, словно каждое слово причиняло ему боль, произнёс:
– Главари шайки будут повешены…
Итак, судилище свершилось! Пятеро главных цареубийц – Рысаков, Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов – были приговорены к смертной казни через повешение; шестой – Геси Гельфман – смертная казнь была заменена бессрочной каторгой, так как она находилась на четвёртом месяце беременности.
Лев Тихомиров, кутая шею жидким шарфиком (гнилая петербургская весна вызвала у него жестокую простуду), переминался с ноги на ногу в жадной до зрелищ клубящейся толпе на Семёновском плацу. С утра стояла замечательная для апрельского Питера погода. Солнце шпарило с восьми часов утра, заливая лучами огромный Семёновский плац.
Три недели назад от имени партии «Народной воли» Тихомиров обратился к царю с письмом, в котором предлагалось предоставить в России полную свободу печати, полную свободу слова, полную свободу сходок и полную свободу избирательных программ. «Мы обращаемся к Вам, – писал Тихомиров, – отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что Вы представитель той власти, которая только обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к Вам, как к гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в Вас сознания своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы потеряли не только отцов, но ещё братьев, жён, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждём того же и от Вас».
Письмо осталось без ответа. Меж тем Тихомиров наблюдал, как от дома предварительного заключения, где содержались смертники, на Шпалерной, Литейном проспекте, Кирочной, Надеждинской и Николаевской улицах выстраивались войска, усиленные нарядами конных жандармов.
На самом плацу царила необыкновенная тишина. Посреди него находился чёрный, почти квадратный помост двух аршин вышины, обнесённый небольшими, выкрашенными также чёрной краской перилами. На помост вели шесть ступеней. В углублении возвышались три позорных столба с цепями и наручниками. Рядом – подставка для казни. По бокам платформы высились два столба с перекладиной и шестью кольцами на ней для верёвок. Позади эшафота лежали пять чёрных деревянных гробов со стружками и парусиновыми саванами. У эшафота, задолго до прибытия палача, скучали четыре арестанта-уголовника в нагольных тулупах – помощники ката.
Ближе к эшафоту расположились конные жандармы и казаки, а на расстоянии двух-трёх сажён от виселицы – пехота лейб-гвардии Семёновского полка.
Ещё ближе, возле самой виселицы, была установлена небольшая платформа для лиц судебного и полицейского ведомств. Туда же допускались и корреспонденты русских и иностранных газет, а также посольских миссий.
– Боже! Боже! – говорил себе Тихомиров. – Через самое короткое время пятеро молодых, здоровых людей – и среди них женщина – превратятся в трупы! И ты, Сонечка, моя бывшая невеста, моя любовь! Нет, я отказываюсь верить в это! В последний момент – я убеждён – казнь будет отменена!..
Между тем в густой толпе на Николаевской улице послышался всё усиливающийся гул: едут!
Показались блестящие каски жандармов и казачьи шапки. За конвоем, громыхая по мостовой, появились высокие колесницы, производившие уже одним своим видом тяжёлое впечатление. На первой повозке, запряжённой парой лошадей, сидели оплетённые ремнями, с привязанными к сиденью руками Желябов и Рысаков. Они были в чёрных, солдатского сукна арестантских шинелях и таких же шапках без козырьков. На груди у каждого висела чёрная доска с белой надписью:
Оба сидели понурив головы, не глядя друг на друга. Девятнадцатилетний Рысаков был чрезвычайно бледен; лицо его дёргалось в нервном тике.
Вслед за первой загромыхала по булыжнику вторая колесница.
В ней Тихомиров узнал Кибальчича, Перовскую и Михайлова, причём Перовская находилась между ними. Мужчины были бледны, а Перовская, напротив, держалась бодро. Тихомиров приметил даже лёгкий румянец на её щеках. На голове у Сони была чёрная повязка вроде капора, а на груди, как и у её подельников, – чёрная доска.
Позднее Тихомирову рассказали, что когда Перовскую втащили на колесницу, ей так туго скрутили руки, что она попросила:
– Отпустите немного… Мне больно…
– После будет ещё больнее! – зло буркнул жандармский офицер.
Но она превозмогла боль и теперь, расширив глаза, глядела на приближающийся чёрный катафалк.
Михайлов кланялся толпе направо и налево, а затем попытался что-то выкрикнуть. Но тут забили барабаны, заглушившие его голос.
За цареубийцами следовали три кареты с пятью священниками, облачёнными в траурные ризы.
Как только осуждённых доставили к месту казни на платформе показались судебные власти и лица прокуратуры. Тихомиров увидел градоначальника генерал-майора Баранова. Он узнал и прокурора судебной палаты Плеве, которого видел на открытом процессе над цареубийцами. Знал он и имя палача – Фролов, тот обычно исполнял экзекуции над революционерами!
Фролов, крепкий мужик в синей поддёвке, темноликий, с редкой смоляной бородой, уже влез по деревянной некрашеной лестнице к перекладине и начал прикреплять к пяти крюкам верёвки с петлями. Внизу стояли два его помощника в таких же синих поддёвках и четыре арестанта в серых фуражках и нагольных тулупах.
Потом Фролов сошёл с эшафота и влез в первую колесницу. Отвязав сперва Желябова, потом Рысакова, он передал их помощникам, которые отвели осуждённых под руки на эшафот и поставили рядом. Тем же порядком сняли со второй колесницы Кибальчича, Перовскую и Михайлова, сопроводили на эшафот и подвели к трём позорным столбам.
«Сейчас! Сейчас! Плеве зачитает монаршье прощение! – думал Тихомиров. – Или, быть может, помилуют хотя бы Перовскую…»
Тем временем всех пятерых привязали к позорным столбам. Спокойной была (или только казалась) одна Перовская; остальные были смертельно бледны. Особенно выделялась апатичная и безжизненная, точно окаменелая, физиономия Михайлова. Душевная покорность отражалась на лице Кибальчича. Желябов выглядел крайне нервным, шевелил руками и беспрестанно поворачивал голову в сторону Перовской. На спокойном, желтовато-бледном лице Перовской по-прежнему блуждал лёгкий румянец. Ни один мускул её лица не дрогнул, но глаза лихорадочно шарили по толпе, словно ища кого-то.