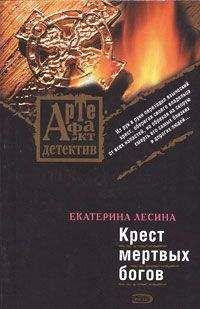угнетала. Во всяком случае, он мог обернуться и посмотреть, кто же все таки прячется у него за спиной? Он так и сделал и увидел старшего, худого и длинного, в больших, не по росту, синих штанах, перетянутых в поясе широким пестрым кушаком. В прошлом году Краснопей сам носил их, нынче они пацанве служат, себе он другие справил, спасибо Краснопеихе, из солдатского шитья, прикладывая полоску к полоске, смастерила. Он справил обнову на Покров день и старые штаны отдал пацанве, а то беда прямо: на улицу лишний раз не выйдет, коль зима на дворе, не больно-то посверкаешь голыми коленками, хотя, чего уж там, на всех одежку не сошьешь…
Краснопей долго смотрел на старшого, раздумывая, не в силах понять сразу, отчего страх еще не пропал?.. Но вот догадался, кто напугал его. Не больно-то шустрый, вяловатый и рыхлый, а тут Краснопей словно бы сорвался с цепи, схватил старшого за волосы, начал таскать по избе. Скоро вся пацанва поднялась с пола, протерла глаза, заулюлюкала, слушая, как голосил старшой, и потешаясь над ним, а заодно и над Краснопеем.
Старшой в кровь исцарапал отцовы руки. Но Краснопей словно бы не заметил этого, как и того, впрочем, что вот уж оставил старшого и принялся за другого огольца, потом за третьего… И теперь не понять, кто кого возит: отец ли голь перекатную, она ли, гунливая и отчаянная, учит его самого уму-разуму. То и дело слышалось:
— Сука ты, батяня, ишь удумал сталую зизнь в сундуке плятать! Вот возьму и сказу кому, взвоешь тогда, попоминаешь свою мамку!..
Краснопей умаялся вусмерть, а толку чуть. Он понял это, когда поднялся с пола и посмотрел на пацанву и увидел одну на всех срамную ухмылку. О, Господи, сказал, грехи наши тяжкие! Но сказал не вслух. Все ж он не отошел еще, не помягчел сердцем, и оттого, увидев жену с газетными вырезками, выбил их у нее из рук, проследил глазами за ними, покиданными на пол, они посверкивали и были точно капли росы на темной листве, а потом начал топтать их, приговаривая:
— А, пропади все пропадом!
Тут уж и Краснопеиха оторвалась от печки и прежде безучастная к тому, что творилось в избе, поднялась со стульчика, отпихнула его ногой и двинулась к Краснопею, горестная и непривычная для мужа и пацанвы, а та вдруг притихла и ждала, но уже без радостного нетерпения, а как бы с напряжением и даже со смущением. Подойдя к супругу, она толкнула его плечом, тот отлетел к стене, заговорил с обидой в прерывающемся голосе:
— Ты чего?..
Она не сказала ни слова, все-то стояло перед ее глазами теперь уже поутихшее шевеление не то чтобы недоброе, скорее, какое-то равнодушное, словно бы ребятне все равно, кто перед ними: отец ли, дядька ли с улицы?.. Краснопеихе казалось, что шевеление, хотя и поутихло, не утратило силы и растекается по избе, а скоро ему делается тесно в четырех стенах, и вот уж оно залазит в щели в окошке, крадется к двери, и там выискивает, куда бы еще протиснуться. Гибкое и упрямое, не совладаешь с ним, не скажешь, чтоб присмирело. И Краснопеиха ничего не предпринимала, как если бы что-то поменялась в ней. Была она раньше как горная реченька, своенравна и горда, сказывала, что, приехав в деревню, обрела себя и сделалась надобна не только непутевому мужу. Но нынче высохла реченька и не плещет сильной волной, не обтесывает белые камни, едва течет меж илистых осыпей, не страгивая с места и задерживаясь, пока не прочешет их, слабо видимая и тоскливая.
Краснопеиха собирала газетные вырезки, но видела не их, тоже как бы поменявшихся, а все то же шевеление и с каждой минутой становилась пуще прежнего растерянной и тоска такая — хоть волком вой… Она не заметила, как, тихо скрипнув, открылась дверь и на пороге вырос худой и длинный Револя с тусклыми глазами, они вроде бы не должны были ничего примечать, но тем не менее не в согласии с собственным естеством оказались углядливы, тотчас рассмотрели старые газеты, Краснопеиха укладывала их на дно сундука, обратили внимание и на то, что пацанва нынче нетерпелива и с досадой позыркивала на отца с матерью. И было в этом нечто от упрямства ли, от неостывшей ли злости. Револя усмехнулся, подумав про нее, на шальном ветру поднявшуюся, ни к чему на свете не преклоненную, что вот она-то, поди, знает, к чему тянется, и, дай срок, потолкавшись про меж людей, пристегнется к его берегу и обернется помощницей в делах — и лихо тогда придется тому, кто попадет ей под руку.
— Ты чего, баба, ползаешь на коленях? — сурово спросил Револя. Краснопеиха не обратила на него никакого внимания, кажется, не услышала. Револя повысил голос, в нем что-то дрогнуло, пискнуло, мышиное что-то вдруг вознамерилось вытесниться из груди, ткнулось в стенку и, не сумев одолеть ее, сжалось, затрепетало… Револя кашлянул, чтоб снять слабину, прорезавшуюся в голосе, смять ее. И это ему удалось, никто не увидел его беспокойства. Он приободрился и, подойдя к Краснопеихе, дотронулся до ее простоволосой головы захолодавшими кончиками пальцев и опять спросил:
— Ты чего, баба, ползаешь на коленях?
Теперь она услышала, поднялась с пола, собрав остатние газетные вырезки, посмотрела на него, словно бы не узнавая, закрыла сундук, задвинула в угол, на прежнее место, и ушла из дому.
Краснопей подкатил к Револе и заговорил про что-то не могущее иметь ни к чему отношения, видать, просто так, от робости, про что-то теплое и ласковое, способное поломать Револину суровость. Это пришлось по душе гостю незваному. Странно, что по душе. Сам-то он хотел бы и дальше пребывать ни в какую сторону не уклоняемым. Но отчего-то сдвинулось на сердце, как бы размягчилось — вон как Краснопей заискивал перед ним и как голь перекатная смотрела ему в рот, дивясь и завидуя. Все так и есть, застыдиться бы надо: что с ним, вправе ли он поменяться нынче? Да вот беда: не стыдно. Револя выпрямил спину, потянулся к потолку, а уж вниз, где стоял Краснопей, чуть согнувши спину, не смотрел, что-то чудное творилось с ним, непривычное, он ни о чем уж не помнил, и о старых газетах запамятовал, но, скорее, ненадолго, придет время, и вспомнит, видать, не приспело еще…
Байкал сковало льдом не сразу, не в один день. Он долго не вступал в боренье с лютой стужей, точно