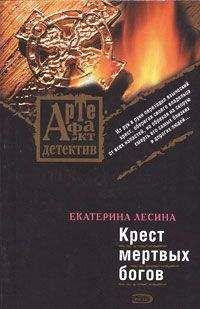вытащить на берег:
— Пошто бы ей разбиваться о камни? Байкал-батюшка суров, не примет пропастины.
Мотька замолчала, терпеливо ждала, когда Краснопеиха поутихнет. Дождалась. Забрела в воду, велела и бабе подняться с колен, подсобить… Они вытащили утонувшую лошадь на берег. Мотька ушла, а Краснопеиха еще долго ковыряла подмерзшую землю, норовя сделать яму. Но так и не сподобилась сделать. Тогда и осилилась, забросала Каурку твердыми комьями, отваленными ею от заматеревшей почвы, которые не рассыпались и были как каменья. Потом пришли рыбаки, и она снова ревела в голос.
Потемну Мотька рассказала Револе о том, что приключилось с нею нынче. Она не держала в голове никакой мысли, и удивилась, когда Револя вскочил на ноги и начал суетливо мерить избу длиннющими шагами:
— Во как!.. Во как!..
Но вот он остановился возле Мотьки, сказал хрипато, с непривычной для него горячностью:
— Краснопей много воли взял, так и мастачит сравняться со мной, тля. Но теперь я прижучу его, будет у меня ходить по одной половице!
Мотька смотрела на Револю, разинув рот, и не скоро еще сказала с восторгом:
— Во башка, а? Все-то умеет на пользу себе оборотить!
Краснопей проснулся мокрый, дрожащий, и не потому, что в избе к утру настыло: пар изо рта так и валит, — а потому, что привиделось во сне невесть что… К бабе подступил, благо, не ушла еще, возле печки сидела, и, чуть приоткрыв дверку, тянула руки к иссиня бледному огню, начал сказывать про то, что привиделось. Но Краснопеиха и глазом не повела в его сторону, и он обиделся, хотел обругать ее, но что-то удержало. Может, нежелание растравлять душу, а может, и привычное, тихое, от робости перед жизнью, которая, как бы ни искручивал себя, не шибко жаловала его и была почти неведома ему? Она, большая и негреющая, протекала там, за порогом, и каждое утро, если земля не облита зоревым светом, а полна сумеречности и всяких тайн, о чем не узнать, услышать боязно, пугала его своей непознанностью. Если бы Краснопей был чуть ближе к сущему, хотя и тревожащему и отталкивающему своей огромностью, включающему в себя и небо, и звезды, а не только землю, он смог бы отыскать утешение и в непоглянувшемся ему утре, но он не был близок к сущему, и не умел приравнять себя к чему-то малому, и в том приравнивании отыскать успокоение.
Краснопей обиделся на жену, но промолчал, в последние дни она сильно поменялась, вдруг посреди ночи проснется, сядет на краешек койки и задумается, а то и заплачет… Он утешал супругу как мог, а мог он немногое, и его утешение не трогало жену, пропадало легкое в темноте за окошком. Он вспомнил об этом и свободно и раскованно, как если бы наперед зная, что ожидается, сказал:
— А ништяк! Стоит ли так убиваться об Каурке? Иль теперешняя лошаденка хуже? Небось тоже неурослива и ловичт приладиться к вороту, лягай ее в бок!
Жена, кажется, не услышала его. Краснопей вздохнул и, примостившись у окошка, стал смотреть в улочку, найдя в стеклине чистый, незамутненный льдистыми наростами, уголок. Снег слегка пошевеливался от налетавшего ветра, искряно белый, в глазах от долгого смотрения сделалось больно, но не поэтому Краснопей отошел от окна, он надышал на стеклину, и та обволоклась паром и уж не было ничего видно. Но то и ладно. В душе у него вдруг стронулось и стало неспокойно, привиденное в ночи и тут, на искряно белом снегу, неожиданно отметилось…
— Ах, ты, елки-палочки!.. — воскликнул Краснопей, отодвигаясь от окошка и с надеждой оборотившись к супруге. Но она попрежнему была как бы не в своей тарелке и не понимала, что творится с мужем, все так же сидела у печки и видела в колеблемом пламени что-то горькое и чуждое ее сердцу: точно бы она теперь находится посреди голой зимней степи и нет никого рядом с нею, ни живой души. Стыло и одиноко. Такое чувство, что вскорости не станет ее вовсе, но не это страшно, а то, что никто не поплачет над ее могилкой. Но тут поменялось в ближнем пространстве, появилось ощущение, что кончилось ее одиночество, и уж не одна она бредет по степи, а еще кто-то… и — она закричала, они оглянулись, злая усмешка тускнела в их лицах, и пошли дальше, хотя и догадались, что она выбивается из сил.
— Родимые! Детки!.. Что же вы не подождете свою маму? — взывала она к голи перекатной, но та все удалялась.
Краснопей намеревался что-то сказать супруге, но, посмотрев на нее, потерянную и жалкую, лишь вздохнул и, накинув на плечи худую, рваную под мышками курмушку, вышел на подворье. Он надеялся, что на чистом воздухе полегчает на сердце и прежние, с ночи, видения отступят. Но этого не случилось, те не уходили, раскинутые по ближням весям, глядели со всех сторон на него. Куда бы он ни повернул голову, везде те же видения: и в темном небе, низко зависшем над землею, и на завалинке, подпирающей поскрипывающие ставни, пристроились настырные. Но стоило Краснопею закрыть глаза, как он не мог даже припомнить, о чем они поведали ему, только и удерживалось в памяти, что угрожали ему Божьей карой за грехи его, про которые он не хотел бы думать, что это грехи.
Ах, уж эти видения! Носятся перед глазами, чуру им нет, и не убежишь от них, не спрячешься, от собственного душевного неустройства они.
Краснопей подумал так и удивился. Про неустройство и слыхом не слыхивал, от лукавого, полагал, тот правит, поворачивает по-своему, если слаб человек… Но он лишь удивился, а поменять в себе не сумел и все пребывал в несвойственном ему непокое, который ширился, укреплялся в сути своей, стремился вылиться во что-то угнетающее душу, невесть что нашептывающее ему. Он, кажется, мог бы и догадаться, о чем эти нашептывания, но почему-то противился возможному пониманию происходящего нынче в душе его.
Краснопей недолго слонялся по собственному необширному подворью с покривившимися сараюхами и подряхлевшими заборчиками, исхудалость их не скроешь и под снежной опушью, зашел в избу и, переступая через пацанву, а она спала на полу, разметав руки и даже во сне воюя, двинулся к переднему углу, где висел на тонком черном шнурке вырванный из книги желтый лист бумаги с ободранными и чуть сксобоченными углами, словно бы побывал в горячей передряге, но счастливо избежал худшего. На листе оказался изображен узкоголовый человек с низким гладким лбом и