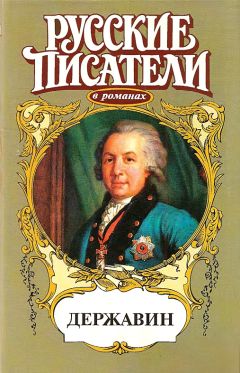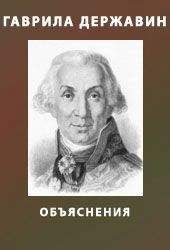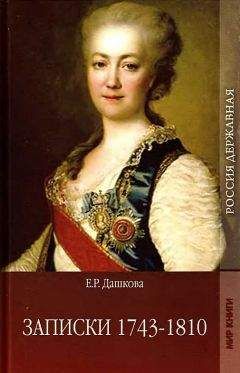Ознакомительная версия.
После кончины Катерины Яковлевны Державин приметно изменился в характере и стал ещё более задумчив. Часто за приятельскими обедами, которые он очень любил, иногда при самых интересных разговорах или спорах он вдруг замолчит и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной — драгоценные ему буквы «К» и «Д». Вторая его супруга, заметив это несвоевременное рисованье, всегда выводила его из мечтаний строгим вопросом: «Танюшка, Танюшка, что это ты делаешь?» — «Так, ничего, матушка!» — обыкновенно с торопливостию отвечал он, потирая себе глаза и лоб как будто спросонья.
Несколько успокоившись, Державин порешил исполнить волю Катерины Яковлевны и передал собранные ею стихи государыне.
Екатерина II читала державинскую рукопись двое суток. Но когда в воскресенье поэт по обыкновению приехал ко двору, приметил императрицы к себе холодность, а окружающие избегали его, как бы боясь с ним и встретиться, не токмо говорить. Что за чудеса?
Прошло две недели. Наконец в третье воскресенье решился Державин спросить Безбородко:
— Слышал я, что её величество отдала мои сочинения вашему сиятельству. Будут ли они напечатаны?
Но вельможа сделал ему рожу и упрыгнул от него, как блоха, бормоча что-то, чего не можно было уразуметь.
На лестнице Зимнего дворца Яков Иванович Булгаков, посланник при Оттоманской Порте, остановил поэта:
— Что ты, братец, за якобинские стихи пишешь?
— Какие?
— Ты переложил 81-й псалом, который не может быть двору приятен.
— Царь Давид не был якобинцем! — шепетливо возразил Державин. — А следовательно, и песни его не могут быть никому противными...
— Э, братец! — отвечал дипломат с улыбкой. — По нынешним обстоятельствам такие стихи писать дурно!
Ввечеру к Державину заглянул Дмитриев и с таинственным видом сказал, что имеет до него некое дело. Поэт сидел в покоях у своих племянниц — двух дочерей Львова, которые жили на его попечении; они отвечали урок француженке Леблер.
— Да что такое? — встревожился Державин.
— Ваше переложение 81-го псалма...
Уразумев, о чём идёт речь, Леблер быстро заговорила по-французски, тряся шиньоном:
— Во время революции сей псалом был якобинцами переиначен и пет на улицах Парижа для подкрепления народного возмущения против Людовика XVI...
Дмитриев примигнул Державину и вышел за ним.
— Гаврила Романович! — запинаясь, сказал он. — Вещь сурьёзная, коли велено вас секретно через Шешковского спросить, для чего и с каким намерением пишете вы такие стихи...
— Стихи, карающие неправого! — дал наконец выход сержению Державин. — Стихи, защищающие справедливость на нашей грешной земле!
Оду «Властителям и судиям» он переделывал несколько раз, добиваясь большей выразительности, гордился ею:
Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очёса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса...
Лицо у Дмитриева, в щербинах, было бледно. Он только теперь ощутил, сколь грозно звучат знакомые ему строки. Но Державин, всё более распаляясь, не хотел замечать его страхов:
Цари! — Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падёте,
Как с древ увядший лист падёт!
И вы подобно так умрёте,
Как ваш последний раб умрёт!
Воскресни, боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царём земли!
— Воистину стихи сии можно толковать и так а этак, — понуро пробормотал Дмитриев.
Державин, не отвечая ему, сел за бюро и задумался. Опять подыск вельмож! опять наветы! Псалом сей он переложил в 1780-м году, тогда стихотворение это запретили и напечатали только через шесть лет.
Сколько же у поэта недоброжелателей среди первейших лиц империи! Завадовский, Тутолмин, Гудович, Грибовский, — да рази всех перечтёшь! Неприятно, чать, видеть им в оде «Вельможа» и прочих стихотворениях развратные их лицеизображения. Вот и мстят, шиши-шпионы, наушничают! Душа у них, верно, сажа сажею...
— Всё это вздор, яролаш! — наконец спокойно отозвался он. — Чего дрожать, оправдываться! Только наступлением, а не ретирадой мы сии козни опровергнем!
Он завострил конец пера и вывел на листе бумаги:
«Спросили некоего стихотворца, как он смеет и с каким намерением пишет он в стихах своих толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он ответствовал: Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему и медик, принёсший кубок, наполненный крепкого зелия. Придворные от ужаса побледнели. Но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил проницательный взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питие, ему принесённое, и получил здравие...»
...«Так и мои стихи, примолвил пиит, ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они однако так же здравы и спасительны...»
Статс-секретарь императрицы Грибовский поднял глаза от бумаги на Екатерину II, желая угадать впечатление, произведённое чтением на старую царицу. Она с живым вниманием слушала «Анекдот», который Державин, запечатав в трёх пакетах, послал ближним к ней особам — Зубову, Безбородко и Трощинскому. Грибовский одним из первых указал государыне на опасные своим вольнодумством мысли, высказанные в переложении 81-го псалма. И вот теперь ему приходилось читать Екатерине II оправдательную записку Державина. Без выражения, бесцветным голосом он продолжал:
«Сверх того, ничто не делает столько государей и вельмож любезными народу и не прославляет их в потомстве, как то, когда они позволяют говорить себе правду и принимать оную великодушно. Сплетение приятных только речений, без аттической соли и нравоучения, бывает вяло, подозрительно и непрочно. Похвала укрепляет, а лесть искореняет добродетель. Истина одна творит героев бессмертными, и зеркало красавице не может быть противно...»
— Всё это так! — Екатерина II насмешливо оглядела Грибовского. — Что за вздор мне наговорили?..
В следующее воскресенье поэт нашёл благоприятную против прежнего перемену. Государыня милостиво пожаловала ему поцеловать руку, приятельски с ним разговаривала, а затем бывшие при дворе вельможи ласкательски ласкали его. Грибовский первым поздравил Державина со стихами, кои императрице толь пришлись по сердцу. Слова свои он сопроводил улыбанием и толь сладким, словно мухино сало разошлось по персту.
Воротясь домой и успокоив Дарью Алексеевну благополучным исходом происшествия, Державин долго сидел в кабинете один, размышляя об императрице.
Конечно, при всех гонениях многих и сильных неприятелей Екатерина II не лишала его своего покровительства и не давала, так сказать, задушить его. Однако не позволяла и торжествовать явно над ними огласкою его справедливости и верной службе. Коротко сказать, она не всегда держалась священной справедливости, но угождала окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их. Потому добродетель не могла сквозь сей частокол пробиться и вознестись до надлежащего величия. Поелику же дух поэта склонен был всегда к морали, то если он и писал в похвалу её стихи, всегда стремился с помощью аллегории или другим каким образом к истине, а потому и не мог быть императрице вовсе приятным. Да-да! Он старался всегда говорить ей истину. Мысль эта не уходила из памяти, возвращалась, требовала выплеснуться на бумагу. Он снова задумался. Что может противостоять беспощадной реке времён? Слава и могущество царей? Но и царь силён — да не бог! И царь нуждается в наставнике, во враче, который для излечения его от недугов даёт ему испить горький, но целительный напиток истины. Римский пиит Гораций в своей оде «К Мельпомене», которую недавно перевёл Капнист, утверждает, что создал себе долговечный памятник уже силою своего искусства:
Ознакомительная версия.