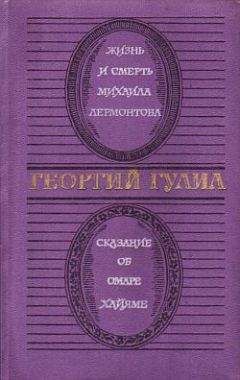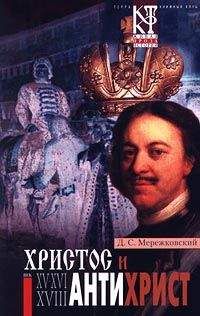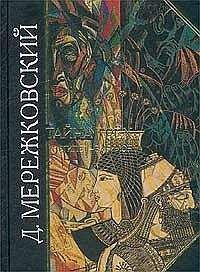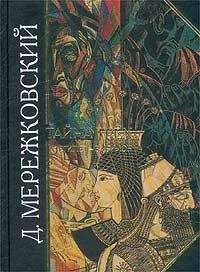Туча ширилась, наползала – медленно, густо…
Лермонтов прибыл в Пятигорск. Устроился у Найтаки. Вместе с ним – Столыпин и Магденко.
А по дороге сюда «Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии». «Говорил Лермонтов и о вопросах, касающихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным». Так рассказывал Магденко…
В гостинице Лермонтова порадовали: здесь, в городе, находится Мартынов (сам Мартынов!).
«Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину:
– Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».
Благодаря Магденко и Висковатову мы знаем кое-что о приезде поэта в Пятигорск.
… Туча, выглянувшая из-за Бештау, все расплывалась. К пяти часам пополудни уже стало ясно: быть проливному дождю. Духота достигла апогея.
В то время Михаил Лермонтов заканчивал обед с Екатериной Быховец в колонии Каррас. (Это между Пятигорском и Железноводском.) И вел себя, говорят, как ни в чем не бывало: бездумно, беззаботно… «…Лермонтов был у нас – ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил, великий князь ненавидел…» Слова эти из письма Екатерины Быховец от 5 августа 1841 года.
Быховец – последняя в его жизни женщина, с которой он беседовал. Она не удержалась от того, чтобы не присовокупить следующее: «…Он был страстно влюблен в В. А. Бахметеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство…»
«Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали… Остаюсь покорный внук М. Лермонтов» (Москва, апрель 1841 года).
Лермонтов всегда успокаивал бабушку, зная ее великую любовь к себе.
«Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив…» Так писала Быховец.
Знал ли Лермонтов, что Мартынов глуп, что это – напыщенный болван? Понимал ли поэт, что опасно сближаться с глупцом, тем более – самолюбивым? Разумеется, тот, кто написал «Героя нашего времени», все знал и все понимал. Но, видимо, не до конца. По доброте своей мог ли он подумать, что Мартынов всерьез будет целиться в сердце – в самое сердце! – друга? Петр Бартенев, знавший Мартынова, писал: «…Н. С. Мартынов передавал, что незадолго до поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков и говорил ему, что приехал отвести с ним душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске».
Петр Мартьянов писал, ссылаясь на своего знакомого поручика Куликовского: «Всякий раз, как появлялся поэт в публике, ему предшествовал шепот: «Лермонтов идет», и всё сторонилось, всё умолкало, всё прислушивалось к каждому его слову, к каждому звуку его речи». Поскольку все это сказано много лет спустя после гибели Лермонтова, нет ли здесь невольного преувеличения? Ведь имя Лермонтова, образ его в третьей четверти девятнадцатого века воспринимался иначе, чем в 1841 году. И это естественно, если только речь не идет о людях, подобных Белинскому, Ростопчиной или Боденштедту.
Меня интересует вот что: воспринимали ли в то время поэта так, как сообщает Куликовский, скажем, Мартынов, Васильчиков, Столыпин, Глебов, Трубецкой? Знали ли они того, другого Лермонтова, автора сборника стихов и «Героя нашего времени»? Нет, не знали, иначе бы спасли его от смерти.
Константин Симонов писал: «В смерти Лермонтова меня больше всего поражает то, что мы еще и сейчас, через 130 лет после нее, никак не можем с ней примириться». Это очень верно: примириться не можем.
Михаил Дудин в своем стихотворении не в состоянии удержаться от гнева. И это сто лет спустя! Он восклицает, говоря о дуэли: «Я вспомню это и застыну у гор и солнца на виду. Ты жив еще, подлец Мартынов. Вставай к барьеру! Я иду!»
А нашелся ли в то время хотя бы один человек, который вызвал бы на дуэль убийцу Лермонтова? Увы, нет! Зато нашлись те, которые поносили. И кого же? Убитого поэта!..
«… Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали…»
В пять часов пополудни или около того Лермонтов все еще был в Каррасе, что в семи верстах от Пятигорска. Он прощался с Быховец. После обеда. Это она пишет: «Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит: «Cousinе, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни…» Я еще над ним смеялась…»
Священник Эрастов был весьма определенного мнения о Лермонтове. Тот самый Эрастов, который отказался отпевать мертвого поэта. Тот самый Эрастов, который донес на протоиерея П. Александровского. А донес потому, что протоиерей проводил тело поэта до могилы.
И этот священник был, разумеется, не один. У него имелись единомышленники не только здесь, в Пятигорске, но и там, в Петербурге. На самом верху.
Эрастов рассказывал Э. Ганейзеру: «От него в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!.. Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить!.. Видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая… Ноги вперед висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал».
А разве пророк может рассчитывать на сочувствие людей, подобных Эрастову и Чиляеву? Разве пророк не все предвидит? Не он ли писал о судьбе пророка? «Смотрите ж, дети, на него: как он угрюм, и худ, и бледен! Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его!»
И, кажется, это были последние слова поэта-пророка, сказанные им стихами на Кавказской земле.
… Черная туча заволокла полнеба. Она наступала все быстрее, сгущая духоту. Наступала она неумолимо, скрывая солнце. Вместе с нею шли и ранние сумерки. Уже гулко громыхало.
Однако дождя еще не было.
Время подвигалось к шести. Лермонтов скакал на своем коне из Карраса к подножию Машука. Он заметно торопился.
«… Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали…»
А случилось это в доме Верзилиных. В этом доме с матерью жили три молоденькие и премилые сестрицы. У них часто собирались молодые люди. В том числе ближайший их сосед Михаил Лермонтов. Явился сюда и этот, Мартынов.
Здесь и произошла известная ссора, ставшая роковой. Пустячный был повод к ней. Лермонтов что-то сострил, по своему обыкновению. Нарисовал в альбоме две-три карикатуры на Мартынова, что был при бакенбардах, усах и кинжале. Молодые люди посмеялись. Девицы хихикнули. А Мартынов нахохлился… Обиделся… Возможно, шутки были чуть позлее обычных… Думаю, что Белинский или тот же Лорер не обиделись бы.
Какие же имеются документы насчет этой ссоры у Верзилиных? Собственно, документы эти – письма, воспоминания, признания.
«Однажды на вечере у генеральши Верзилиной, – сообщает князь Васильчиков, – Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дому на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах…»
Из этого ясно одно: Мартынов не любил шуток – обычный удел людей недалеких!
Быховец уточняет, что это были за шутки Лермонтова: «Он его назвал при дамах m-r le Poignard и Sauvage'oм». Что значит по-русски: г-н Кинжал и Дикарь.
Сам Мартынов, отвечая на вопросы суда, писал: «Остроты, колкости, насмешки на мой счет… Просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, он действительно перестал на несколько дней…»
Вот, по существу, и все. Неужели Лермонтов не видел и не понимал, с кем имеет дело?!
Лермонтов привез с собою в Пятигорск двух крепостных людей: конюха Ивана Вертюкова и Ивана Соколова – камердинера. Оба, разумеется, из Тархан. А прислуживал поэту Христофор Саникидзе.
Держал поэт двух лошадей. Говорят, были они великолепны. Мартьянов передает со слов Саникидзе, что «Михаил Юрьевич был человек весьма веселого нрава… С прислугой был необыкновенно добр, ласков и снисходителен, а старого камердинера своего любил как родного…» Вот еще любопытная деталь: «Саникидзе говорит между прочим, что Лермонтов умел играть на флейте и забавлялся этой игрой изредка… Много говорить он не любил. Обыкновенным времяпрепровождением у него было ходить по комнате из угла в угол и курить трубку с длинным чубуком. Писал он более по ночам, или рано утром, но писал и урывками днем, присядет к столу, попишет и уйдет. Писал он всегда в кабинете, но писал, случалось, и за чаем на балконе, где проводил иногда целые часы, слушая пение птичек».
Еще одна подробность: «главный лекарь», титулярный советник Барклай де Толли признал Лермонтова и Столыпина больными и «подлежащими лечению минеральными ваннами».