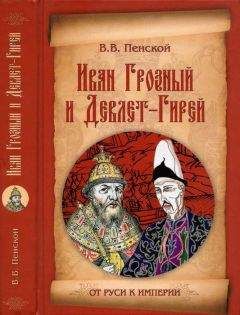— Мы того не боимся! — запальчиво отвечали стрельцы. — Громите!
— Видали-ста мы пушки и не такие!
Посланные отъехали к своему войску и снова воротились.
— Так вы не хотите добить челом?
— Не хотим! — был ответ.
Посланные молча воротились. Видно было, как пушкари задвигались около орудий, как зажигались фитили, наводились дула пушек. Стрельцы взялись за оружие, распустили знамена. Старик — священник стоял впереди с крестом, который видимо дрожал в его дряхлых руках. Бледные губы его шептали молитву. А в высоте, над пространством, разделявшим оба войска, радостно заливался жаворонок.
На возвышении послышалась команда. Белые струйки дыма взвились над пушками, и они грянули. Стрельцы невольно вздрогнули и оглянулись: далеко за их строем, у заднего обоза, перелетевшие через их головы ядра прыгали и бороздили землю.
Крики стрельцов огласили поле.
— Преподобный Сергий! Преподобный Сергий! — дико кричали они, махая шапками, и двинулись вперед сплошною лавою.
Но с возвышения пушки грянули снова, и чугунные ядра глухо застучали о тела стрельцов, которые с криками и стонами падали на землю, обагряя ее кровью и корчась в предсмертных муках… Стрельцы дрогнули.
Поражение стрельцов под Воскресенским монастырем случилось 17 июня 1698 года на Большой Московской дороге. По дороге этой 25 августа того же года, в жаркий полдень, гремя бубенцами и подымая облака белой пыли, быстро мчалась шестериком большая дорожная коляска прочной венской работы. Взмыленные кони, казалось, чувствовали, кого они везут: расширенные ноздри огнем пышут, от копыт комьями летит земля, ямщик правит ими стоя, точно Гектор на своей колеснице, и плавно поводит в воздухе рукавицею, вызывая этим движением бешеную скачку.
В коляске двое седоков. Один — молодой высокий мужчина в кафтане Преображенского сержанта, другой, гигант ростом и плечами, в одежде голландского матроса, с нервно подергивающимся лицом и с огромною суковатою дубиною в руках, словно Геркулес со своею палицею.
— Видишь, Данилыч? — указал великан рукою вперед.
— Вижу, государь, — отвечал его спутник.
— А что оно такое?
— Не разберу, государь… Кажись, повешенный.
Впереди у самой дороги на перекладине, положенной на двух столбах, качалось что-то красное. Но красного почти не видать было: его облепила стая ворон, которые дрались из-за добычи, иные садились на перекладину, другие цеплялись за повешенного и махали крыльями.
— Точно, государь, висельник и, кажись, стрелец.
— Зело добр к ним его милость, кесарь Ромодановский…
Они уселись опять. Передохнувшие кони рванулись с места и понеслись как бешеные. Ямщик плавно поводил рукавицею и подергивал плечами: он знал, кого везет…
— Эй, вы, соколики! Грабят!
По сторонам то и дело попадались виселицы с трупами. Завидя приближающийся к виселицам экипаж, птицы с криком поднимались с трупов и каркая кружились в воздухе.
— Ты считаешь, Данилыч, виселицы?
— Считаю, государь.
— Это которая будет?
— Двадцать вторая, государь.
И Данилыч заносил свои статистические наблюдения в записную книжку.
Но вот Москва.
Петр возвратился в Москву в страшно возбужденном состоянии. Он даже не хотел въезжать в свою столицу, так она ему опостылела! То, что видел он в Европе, в первый раз побывав в ней, всю эту так высоко поставленную культуру, цветущие города, превосходно возделанные поля, гавани, наполненные кораблями, роскошные здания, чистоту, образцовые порядки, чистенькие домики поселян, и то, что он увидел в России и что чуть было не забыл в Европе, жалкие, ободранные селения, безобразные города, плохо засеянные нивы, оборванное голодающее население со звериным видом и звериными инстинктами, кричащая на каждом шагу бедность, грязь, тупые, одичалые от страха лица поселян, все это заливало его щеки краской стыда и злобы, на кого? На что?.. Он хочет вытащить Русь из этого гнилого омута старины, неподвижности, невежества — и стрельцы становятся ему поперек дороги!.. Он должен был воротиться с пути в Венецию, когда получил известие о их движении к столице…
Он задыхается при одном виде Москвы!..
— В Немецкую слободу! — кричит он при въезде в заставу.
И ямщик пускает взмыленных, бешеных коней туда, куда велит царь.
— Вели ехать прямо к Монцам, — приказывает он Меншикову.
Меншиков показывает, куда ехать. Кони с грохотом и звоном бубенцов мчат коляску по пыльным улицам Кукуя. Из окон высовываются изумленные лица немок и немцев… Кукуй ликует! — Он так боялся, что царь не воротится…
— Ach, Kaiser! S'ist Kaiser, Czar! Ach, mein Gott!.. Hoch! Hoch! Vivat!
Вон и знакомый домик с мезонином и с золотыми буквами на вывеске: Weinhandlung «Заморския вина»…
В крайнем окошке показывается прелестное личико и, вспыхнув яркою краскою не то стыда, не то радости, моментально скрывается.
— Стой! Осади! — нетерпеливо говорит великан.
Лошади стали как вкопанные, храпя и звеня бубенцами.
Прелестное личико уже на крыльце — все пунцовое, радостное, трепетное, в беленьком платьице…
— Здравствуй, Аннушка! Что, не чаяла гостя? Не рада? — улыбается великан.
— Ach, mein Kaiser allergnadigster Herr! — еще более вспыхивает Аннушка и делает книксен.
Великан уже на крыльце. Скрипит крыльцо под его могучими ногами. Аннушка не то робко, не то кокетливо нагибается к руке великана и целует ее.
— Что ты, Анна! Еще губки поцарапаешь о мозолистые плотничьи руки, — улыбается великан.
— Нет, государь, — вскидывает на него девушка свои ясные глаза, — твои руки золотые, об золото не поцарапаешься.
— Умница! Умеет ответ держать. А в губы не хочешь поцеловать? Не рада?
— Нет, государь, рада, только до губ не достану: вон какой ты высокий, zu gross!
И действительно, руки ее доставали только до пояса великана. Тогда он с улыбкой нагнулся и приподнял ее до себя. Девушка обвилась руками вокруг его шеи и повисла, точно на дубе, потому что ноги ее не доставали до полу аршина на полтора. Он поддерживал ее.
— Ну, Аннушка, — говорил он, — видел я и вашу немецкую землю… О, зело многому можно у вас поучиться.
— So? Да? Я же тебе говорила.
— Говорила, говорила, умница.
— Diese Schiffe, корабли, diese Kirche, diese… Ach, und alles, alles! — Да, точно все это в сказке, — задумчиво говорил он, — а наипаче эти голландцы…
— А ты не забыл там свою Аннушку, Анхен? — кокетливо рисовалась она. — Не полюбил там голаночку?
— Нет, Анна. Нам не до того было: и денно, и нощно в науке обретались.
— И скучать некогда было по своей Аннушке?
— Некогда, красавица… да и дольше бы там пробыл, если бы не эти…
— Стрельцы, государь?
— Стрельцы…
— Ах, государь! Слава Богу, что ты воротился… А уж как мы боялись… как боялись! Говорили, будто тебя, государя, на свете не стало… Уж я плакала, чуть глаз не выплакала…
Царь встал и вытянулся во весь свой гигантский рост.
— Я им покажу, как меня на свете не стало!
— Ах, государь! Там, сказывают, тебя не стало, а тут стрельцы идут на Москву, чтобы всех немцев… Ach, mein Gott, как я боялась! И вымолвить страшно: чтоб всех-де немцев побить и Немецкую слободу разорить.
— Этому не бывать! — топнул он ногою. — Скорей стрелецкую слободу в ничто обращу… Данилыч! — крикнул он.
— Я здесь, государь, — показался в дверях Меншиков.
— Беги к Франц… к Лефорту: скажи, что я скоро буду у него, и чтоб он взял розыскное дело о стрельцах: я хочу ноне его прочесть.
— Слушаю, государь.
Сорвав первый гнев на розыскном деле, он несколько успокоился.
— А тебе-то как достается в челобитной, — с улыбкой обратился он к Лефорту.
— Да, государь, — улыбнулся и Лефорт, — все на меня валят, как на бедного Макара.
— И все Францко, да Францко, Францем не хотят назвать.
— Надо же, государь, немца доехать хоть словом.
— Да это они не тебя, — серьезно заметил царь.
— Кого же, государь?
— Меня… Это кошку бьют, а невестке наметку дают: на меня они злы, потому спуску им не даю. До меня при батюшке да при сестрице Софьюшке они только бражничали да бунты учиняли, а я их в возжах держу, вот и брыкают… Да добро! Копыта себе обобьют брыкаючись. Они теперь думают, что на том суд и прикончится, что Шеин сто тридцать душ их, словно собак, перевешал. Нет! Я начну сызнова, чтоб семени Милославского и в заводе не осталось… А вы, большие бороды! — пригрозил он кому-то в пространство. — Сидите смирно! Не укосню и до вас добраться… Я насею нового семени, и из нового семени взойдет новая Россия, и вино новое и мехи новые! Я все новое заведу: скоро вы не узнаете России… Поймут Петра, да только нескоро: и во сто и в два ста лет не все поймут Петра, а поймут — спасибо скажут… Одно, Франц, горько! — сказал он задумчиво.