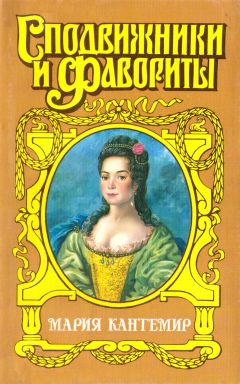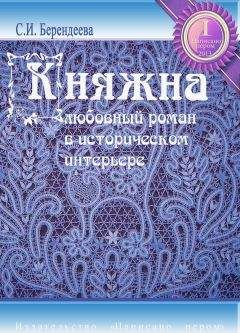В самый последний момент, когда шведский адмирал понял, что надеяться больше не на что, он приказал спустить для себя шлюпку и попытался спастись бегством.
Но его быстро окружили русские лодки, солдаты схватили шведского адмирала и привели его к Петру.
Так же расправились матросы и с другими одиннадцатью отделившимися от эскадры шведскими судами.
Все они были взяты на абордаж, шведы захвачены в плен и погружены на русские суда...
В пылу боя русские не заметили, как захватили и остров Аланд, расположенный всего-навсего в пятнадцати милях от столицы Швеции — Стокгольма.
Это страшное известие повергло шведскую столицу в ужас. Ещё немного — и русские возьмут столицу, а значит, перестанет существовать Швеция.
Началось лихорадочное возведение укреплений, оборонительных линий, а все придворные приготовились бежать из столицы вглубь страны.
Не пошёл Пётр на столицу Швеции, хотя в этот раз, после Гангута, мог бы спокойно завладеть Стокгольмом, и советники царя настаивали на том, чтобы продолжить так удачно начатую баталию.
Но Пётр сказал:
— Удача придёт или нет — неизвестно, флот же надобно сохранить, а шведские суда нам большая подмога. Потому пойдём в Або, переждём зиму, а там будет видно.
Не играл Пётр с удачей в прятки: один раз помогло ему Провидение, сам Бог словно бы остановил ветер, будет ли такая удача во второй раз — неясно, да и сам Карлус всё ещё был в Европе и собирал войска для новых сражений.
Как же палили пушки, как же торжествовал народ, встречая своего неугомонного царя после такой блестящей баталии!
Пётр рапортовал Сенату о своей победе при Гангуте, и Сенат ответил ему повышением в чине: Пётр Алексеевич Романов был пожалован в вице-адмиралы...
День не задался с самого утра. Сначала был долгий спор с камерарием — управителем дома, потом сбежал со спиртовки крепчайший кофе, который Мария всегда пила по утрам, затем куда-то пропала связка ключей, всегда либо лежащих на её прикроватном столике, либо звенящих на её широком поясе.
Мария поджимала яркие пунцовые губы, хмурила круглые брови, словно самой природой выведенные над яркими зелёными глазами тончайшими полукружиями, блеск в её глазах становился зловещим и яростным: во гневе княжна была несдержанна на язык, а то и на руку — это знали все в доме и потому прятались от её хмурого, как сегодня, взгляда: не дай бог не угодить молодой хозяйке.
Князь всё не выходил из своего кабинета, увлёкшись очередной порцией писанины, и оттого княжна носилась по дому, везде находя пыль, беспорядок и грозно отчитывая случайно попавшуюся на глаза прислугу.
Даже братья, для которых княжна всегда приберегала ласковое слово и одобрительное поглаживание по голове, усердно засели за учёбу под внимательным глазом русского учителя и стопу книг.
Что на неё нашло, княжна и сама не понимала, лишь смутно чувствовала, что в доме что-то происходит, а может быть, произойдёт, и этого она бессознательно боялась и подозревала, что ничего хорошего из будущего происшествия для неё не выйдет...
Она уже давно, года три назад, стала полновластной хозяйкой в доме отца, Дмитрия Кантемира. Только она и поддерживала ещё этикет, постепенно спадавший, как кожура гниющего ореха.
Лишь она ещё заставляла отца надевать все его знаки власти и достоинства, когда приходилось ему исполнять обязанности отца всех молдаван, вышедших в Россию вместе с ним.
Только она ещё следила за тем, чтобы неизменно соблюдались все правила, полагающиеся при встрече с господарем Молдавии, и строго взыскивала с тех, кто пренебрегал этими правилами.
Сам господарь постепенно понимал, что его маленькое владычество всё больше и больше мельчает, что из нескольких тысяч человек, выведенных им из пределов Молдавии, остаётся всё меньше и меньше — часть осела в Украине, часть ушла за кордон, в Польшу, чтобы быть поближе к родине, и лишь верные и неизменные слуги всё ещё были рядом, старались, как могли, облегчать жизнь господаря.
Всё чаще и чаще пропадал он за письменным столом, едва находя время на скудные трапезы, всё глубже и глубже уходил в область фантазий и мечтаний, которые выливались на бумагу мелким бисерным почерком...
С управителем имений, со слугами общалась только она, княжна Мария, затаившая горе под маской строгой взыскательности и неуправляемого порой гнева. И всего-то было ей шестнадцать лет, но она уже научилась скрывать свою сердечную боль, потому что видела, как её малейшее волнение и скорбь тут же передаются всем домашним.
А сколько боли и горя пришлось ей пережить за все эти годы, отметившие её взросление!
Лишь по ночам позволяла она себе поплакать в подушку, вспоминая последние дни матери, Кассандры, ставшей совсем слабой и беспомощной.
Но и на похоронах держалась Мария с достоинством и спокойствием — видела, как исходит слезами отец, как любопытно взирают на всё происходящее братья, как тает и тает, словно свечка от душевного жара, младшая сестра — Смарагда.
Совсем немного времени прошло с тех пор, как уложили в склепе Николо-Греческого монастыря Кассандру, а вслед ушла и Смарагда. И тут старалась Мария не проливать напрасно слёз — чересчур много хлопот легло на её ещё некрепкие плечи...
Перед самой своей смертью, прощаясь с детьми и мужем, Кассандра слабым, едва слышным голосом сказала Марии:
— На тебя оставляю я всю семью, будь опорой отцу, матерью — братьям, надеждой — сестре...
Не уберегла она Смарагду и по ночам грызла себя тем, что не выполнила наказа матери, не смогла примирить Смарагду с действительностью, самая лёгкая болезнь унесла её в могилу...
Строгой, требовательной и любящей старалась она быть для братьев — они росли сорванцами, словно видели, что отцу вовсе не до них, что он погрузился в пучину горя, и только письменные занятия вырывали его из этой бездны.
Он работал за столом, писал труды, которые могли бы стать делом всей его жизни, и горестно думал о том, что жизнь его кончена, что надежд на избавление родины от турок уже не осталось, потому что русским царём владели иные мысли и иные военные планы..
Полное и глубокое разочарование, печаль по жене, с которой так много связывало его, всё больше и больше проникали в его душу, и ему уже неинтересно было, как собирается оброк с имений, сколько денег получается с крестьян, каковы вообще его денежные дела.
Всё это оставил он на долю своих верных слуг и своей опоры — Марии...
Она и поддерживала ту налаженность, что заведена была ещё при матери: чистота в доме, строгость распорядка, непрестанная учёба братьев, взыскательность к слугам.
Это постоянное напряжение держало её в состоянии, далёком от излишних грёз и мечтаний.
И только иногда, словно бы сквозь розовый туман, видела она и зелёную лужайку в русском лагере под Станилештами, и парусинное полотно, брошенное под её красный далматик, и растянувшееся на траве большое и сильное тело русского царя, и его нахмуренные брови, и смешно шевелящиеся усики над полной верхней губой, и свой восторженный взгляд, устремлённый на кожаные, искусно сделанные фигуры шахмат. Она никак не могла забыть ни эту игру, ни быстрые беглые поцелуи Петра, вознёсшего её на руках к самому небу, ни его восторженный крик: «Виктория, виктория, виктория!»
Эту картинку она бережно хранила в памяти, никому не давала любоваться ею, со временем память несколько изменяла слова и жесты, но этот розовый флёр, покрывавший давнюю сцену, становился от времени всё менее и менее прозрачным, и сквозь него уже с трудом виделись и фигуры действующих в этой сцене лиц...
Она дорисовывала в своём воображении отдельные места, которые хотела бы сохранить и увидеть заново в этой сцене, но обрывала себя и глухо шептала сквозь зубы:
— Никогда больше я не увижу его, рыцаря из моей мечты...
Зацокали на подъездной аллее копыта лошадей, скрипнув, замерла перед резным крыльцом старенькая, вытертая временем карета, и Мария выскочила на крыльцо, словно чувствовала — что-то должно было произойти...
Человека, который тяжело вылезал из кареты, Мария признала сразу: полное лицо, бритый подбородок, пышное жабо вокруг старческой сморщенной шеи, быстрые руки, опёршиеся на руки слуг, — боже мой, да это же он, Пётр Андреевич Толстой, почти не изменившийся со времён её стамбульского житья, хоть и слегка постаревший и огрузневший.
Она кинулась к нему, забыв все правила этикета, налетела на его большое и расплывшееся тело, закинула руки на шею и стала целовать куда попало: в огрузший широкий нос, в бритый круглый подбородок, в высокий, всё ещё чистый и не сморщившийся лоб.
Пётр Андреевич смущённо принимал эти знаки любви и внимания, но не понимал, кто висит на его шее, кто так нежно и радостно встречает его, хоть и рад был такой не этикетной и сумбурной встрече.