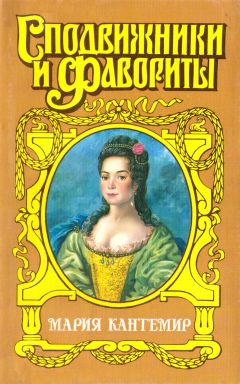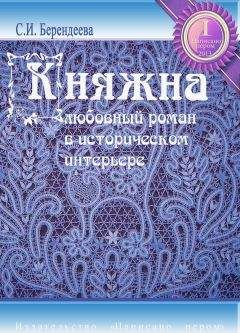Небольшой аккуратный парик сдвинулся на сторону, обнажив совершенно лысую круглую голову, кружевное пышное жабо смялось под бурным излиянием чувств, а шитые золотом отвороты кафтана, он словно это чувствовал, царапали смуглые тугие щёчки прелестной незнакомки, так весело и бурно встречавшей его, что сердце его затрепетало от давно забытых проблесков чувств.
Мария оторвалась от лица Толстого, взглянула на всю его семидесятилетнюю фигуру и сказала:
— Да вы и не изменились, Пётр Андреич! Как же я вам рада! Как я счастлива видеть вас!
— Кто вы, прекрасная незнакомка? — изящно поклонился Толстой, подвинув на место парик. — Вы так прелестны, что у меня нет слов, чтобы выразить вам своё восхищение такой красотой.
— Пётр Андреич, — сразу потухла Мария, — да вы и не узнали меня, а раньше, бывало, носили на руках.
Она капризно надула свежие губки и теперь уже со всей тщательностью и старанием сделала модный реверанс по всем правилам.
Толстой прищурился. Как же мог он забыть такую девушку, кто она? Неужели старшая из дочерей Кантемира, неужели это Мария, превратившаяся в удивительную красавицу, весёлую, непосредственную, — его ли это крестница?
— Да уж ты не Мария ли? — удивлённо проговорил он, изумлённый происшедшей в ней перемене.
Из голенастой девчонки, всё крутившейся возле них с князем, когда они играли в шахматы, из некрасивого подростка она превратилась в прекрасного лебедя, все её движения полны неизъяснимого изящества, свежие губы таят непонятное торжество, а прямой греческий нос напоминает о её высоком происхождении...
— Увы, это я! — закричала Мария, не в силах удержаться от радости, что видит своего крестного. — Как же вы меня не узнали, неужели я стала такая некрасивая и страшная?
— Не кокетничай, — оборвал её Толстой, — в такую красавицу вымахала, что признать трудно! Небось от женихов отбоя уж нет?
Мария поморщилась. Предложений и разговоров было много, да только она, пока не вырастит братьев, не определит их, не могла и помыслить о себе.
Вышел на крыльцо и Кантемир. Слуги уже доложили ему, что там, на крылечке, Мария целует какого-то незнакомого человека в золотом шитом кафтане и парике, старого, но ещё подвижного.
Встревоженно вгляделся он близорукими глазами в Толстого, сразу и не признал, но, когда увидел свежее стариковское чисто выбритое лицо, изумился:
— Вот уж не ждал, не гадал, Пётр Андреич! Какими судьбами, как добрались из плена, как поживаете?
Словом, засыпал вопросами, не дожидаясь ответов, и повёл гостя в дом, радуясь этой неожиданной встрече, этому посещению.
Давненько не бывало в его доме людей знатных и весёлых, тех, которых он любил бы и уважал.
Княжеские хоромы не были слишком просторными, это был каменный дом старой московской застройки, но главная зала, в которой стоял княжеский высокий стул под бархатным бордовым балдахином и где Кантемир вершил суд и расправу над своими немногочисленными подданными, отличалась двусветным высоким пространством, роскошными бархатными гардинами, прекрасными, тонко выполненными картинами итальянских и венецианских мастеров, креслами в той же гамме цветов для знатных бояр Молдовы, имевших право сидеть в присутствии господаря.
Теперь, правда, этикет и церемониал уже не соблюдались так тщательно, как в первые годы выезда из Молдавии, да и не было Кассандры, старательно охранявшей все обычаи и малейшие особенности церемониала.
Но Дмитрий Константинович не повёл Толстого в эту парадную залу.
Лето украсило все деревья в саду, разнообразные цветы являли собой прекрасное зрелище, и потому князь приказал накрыть стол в саду, под зелёными кронами, чтобы на вольном воздухе распить чару отменного молдавского вина, которым всё ещё славился погреб молдавского князя.
Сбежалась вся семья Кантемира. Толпились сыновья, жадно разглядывая семидесятилетнего старца, которого они с трудом помнили, но знали, что знакомы ещё по Стамбулу.
— В любой дом с пустыми руками не ходят, да ещё в первый раз, — смеялся Толстой, одаривая младших детей подарками, а Марии преподнёс тяжеленную шашечницу в клетку и заставил её раскрыть выточенные из слоновой кости толстые створки.
Она увидела такие искусно сделанные и изящно выточенные из слоновой кости фигуры, что забыла обо всём на свете.
— Не кто иной, как сам государь Пётр Алексеевич выточил эти фигуры на своём токарном станке, — серьёзно и торжественно сказал Толстой, глядя, с какой любовью и бережностью разглядывает и оглаживает шахматные фигуры Мария.
Она с изумлением подняла на Петра Андреевича свои яркие зелёные глаза, и он увидел в них такое волнение, такую нежность и затаённый страх, что сам невольно поразился тому впечатлению, которое произвёл на неё подарок.
— Неужели? — только и пробормотала Мария.
— Да-да, он сам и велел тебе отдать, да и слова соответствующие сказать, что, дескать, не забыл Дилорам, что помнит о девчонке, однажды одержавшей над ним викторию...
С каким же страхом и изумлением оглаживала Мария все эти удивительные фигуры — они так тщательно были огранены, так старательно выпилены и отшлифованы, что она не могла прийти в себя от радости и внезапно вспыхнувшей любви.
— Он помнит? — невольно навернулись на язык слова.
— Наш государь ничего не забывает, — важно ответил Толстой и внимательно вгляделся в Марию.
Отсвет радости и влюблённости словно подсветил её всю изнутри — засияли её огромные зелёные глаза, вскинулись полукружия тёмных бровей, и румянец окрасил её обычно бледные смуглые щёки. Она была так хороша в это мгновение, что Толстой пожалел о том, что царь не видит её именно сейчас — уж он бы разобрал, где просто радость и благодарность, а где ещё и смутные воспоминания о былой детской любви.
А Сам князь разглядывал кальян, привезённый из Стамбула бывшим узником Семибашенного замка, — изящный мундштук, длинную серебряную трубку и прекрасный серебряный сосуд, через который проходит табачный дым.
Давно не было у него такого кальяна, и Кантемир с грустью и меланхоличным выражением лица вспоминал времена жизни в Стамбуле, мягкие низкие диваны своего дома-дворца, построенного по его указаниям в Константинополе, широкие окна, в которые вливалось так много света и воздуха, ковры, устилавшие пол, низкие навесы над окнами и тёмные резные шкафы, где умещалось всё их имущество.
Но ещё больше тосковал он по удивительным цветникам и вспоминал историю, связанную с цветами и Толстым, и вдруг все воспоминания заслонило лицо его милой Кассандры.
— А Кассандры больше нет, — пробормотал он.
— Удивительная была красавица, — в тон ему откликнулся Толстой, — жаль, что так быстро покинула этот свет, не увидела своих детей в возрасте...
Оба они поникли головами: Толстой вспомнил свою жену, тоже рано скончавшуюся и почти забытую им, а Кантемир погрузился в воспоминания о Кассандре, столько лет дарившей его теплом, заботой и любовью.
Они сидели под тенистой ажурной сетью зелёного тумана, попивали крепчайший кофе, страсть к которому не покинула Кантемира и здесь, в холодной России, покуривали кальян и беседовали о прошлом.
— Расскажите, как провели вы все эти годы в Стамбуле, — внезапно разорвала тончайшую сеть их воспоминаний Мария.
Толстой словно проснулся, оторвался от своих мыслей и взглянул на Марию.
Всё-таки он должен был рассказать о том проклятии, которое перед смертью, перед тем, как ему отрубили голову, наложил на эту семью Балтаджи Мехмед-паша, великий визирь турецкого султана.
Но как об этом рассказать, чтобы не запугать их, чтобы не окутала их таинственная и страшная пелена этого проклятия?
— Не верю я, — вдруг непоследовательно произнесла Мария, — что эти тончайшие фигуры выпилил сам государь.
При этом лицо её залилось такой краской, что Толстой опять изумлённо покосился на девушку.
— Наш государь — работник на троне, — важно произнёс он и, сам смутившись такой своей важностью, просто продолжил: — Государь бывал во многих краях, не сидел сиднем на престоле, обучился всему, чему только возможно, ремёслам многим, и научил своих подданных...
— Нигде, наверное, нет и не было такого государя, — прошептала Мария.
— Да уж это вам не французский король, который только и знает, что упражняться в танцах и изящных комплиментах, и не турецкий султан, который находит неизъяснимое наслаждение в том, чтобы отрубать головы своим подданным направо и налево, — опять с важностью проговорил Толстой. — Да вот, уж перед самым заключением Адрианопольского мира призвали нас во дворец султана, нас — это пленников, сына фельдмаршала Шереметева, меня, как посла, и вице-канцлера Шафирова, — мы уж в плену томились почти три года...