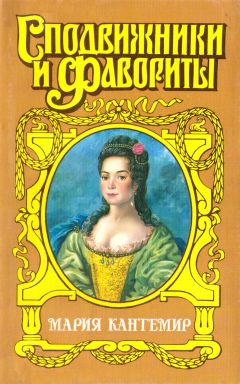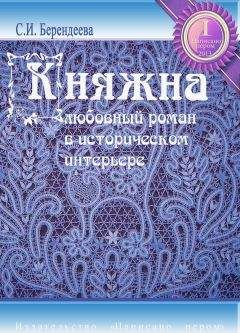Ах, как лелеял Пётр эту мечту — дочку свою выдать за короля французского, чтобы получить и с этой стороны подкрепление и опору!
— Только вряд ли француз захочет иметь дело с нашей принцессой, — рассудительно заметил Толстой, — нос воротят они, французы, от нашей царицы, бывшей прачки, да и от незаконнорождённой Елизаветы, хоть она и красива, и умна, и ослепительна. Но подгадила её родословная: в Европе и слышать не хотят о незаконнорождённых невестах...
Во всей рассказах Толстого Кантемир уловил только одно: слишком занят русский царь войной на севере, слишком уж страдает он за битву со Швецией, и теперь уже не надо ждать, чтобы повернулся Пётр лицом к югу, к Чёрному морю, встал за освобождение Молдавии и всех Балкан от османского ига.
Печаль отразилась в его больших ясных глазах, веки приспустились над ними, и две морщины, глубокие и резкие, прорезали его высокий лоб.
Нет, не будет воевать царь за его страну — что ему какая-то крохотная Молдавия, когда её владетель, господарь молдавский, живёт в России в довольстве, богатстве, даже в роскоши...
Эти чёрные думы мешали Дмитрию высказать Петру Андреевичу все свои заботы — а хотелось ему поведать, что уже многое написал, ещё более задумал, что работа ждёт его с утра до позднего вечера, и не бывает для него лишнего, свободного от труда времени, что даже все домашние заботы переложил он на свою старшую дочь, и она, хранительница его очага, исправно и добросовестно несёт это бремя...
Но Пётр Андреевич и сам видел, что хозяйкой в доме стала Мария: ей на ухо шептали что-то слуги, и она властно распоряжалась, к ней подходил управитель имениями и всем домашним хозяйством, разодетый в шёлковую ливрею домоправитель и тоже о чём-то шептались с ней.
Долго не кончалась беседа за круглым обильным столом в саду Кантемира.
Вот уже и небо притухло, и первые неяркие звёздочки появились на тёмно-синем пологе небосвода, вот уже слуги внесли и факелы, и лампы, и закружилось вокруг огня несметное множество мошек и бабочек, мотыльков и комаров, и Мария несмело предложила отцу и его гостю пройти в дом, на мягкие диваны и кресла, в обширные и роскошные покои.
— Да ведь я так и не видел твоего дома, князь, — спохватился Толстой.
— Увидишь, Пётр Андреич, завтра, ты ж ведь ночуешь у нас.
— А и то, — просто согласился Толстой, — где ни спать, только бы не спать. Стариковский сон такой лёгкий: припал к подушке на полчаса-час — вот уж и сна ни в одном глазу.
— Мы и в новые шахматы поиграем, — предложил Кантемир, — так давно не сражался я с хорошим противником...
— А что, не с кем разве играть? — удивился Толстой.
Он прекрасно помнил, как интересно и весело играла в шахматы Мария ещё в Стамбуле.
— Дочке всё некогда, у неё хозяйских дел невпроворот, — смутился князь, — да и мне, признаться, не хочется ни с кем перекинуться партией: слишком уж много невзгод навалилось...
Но он прикусил язык: не стоит показывать Петру Андреевичу, что смутен он и невесел, что грызёт его тоска по прошлому, и хоть и некогда ему даже вздохнуть — всё время уходит на писанину, — а всё же не хватает живого, настоящего дела...
И это подметил Толстой.
Семисвечные канделябры ярко освещали покои Кантемира, когда они с Толстым уселись за маленький круглый столик в мягкие и широкие кресла.
Рядом, на другом столике, поставлены были кальян, кофе и сладкая вода, припорошённая лепестками розы.
— Обновим, князь, шахматы русского царя, — засмеялся Толстой, присаживаясь к столику.
Мария, которая держала свечу, сопровождая их через анфиладу комнат, чуть не упала: она вдруг возревновала, что не она первая станет играть в Петровы шахматы, не она первая будет переставлять их с места на место, держать в пальцах и любовно оглаживать.
— А вот это если разрешит хозяйка шахмат, — засмеялся и Кантемир.
— Только с условием, что первой буду играть я, — сурово, даже несколько отстранённо сказала Мария.
Толстой искоса взглянул на Кантемира, и тот поспешно ответил:
— Конечно, конечно, коли не возражает гость, что придётся играть с девицей...
— Девица-то девица, а ума — палата, — бормотнул про себя Толстой, — только уж не обессудьте, всё забыл в этом басурманском плену, проиграю — знайте, что это из-за Семибашенного замка...
— Нечего отговариваться, — рассмеялась наконец и Мария. — Знаю я, как вы умеете отшутиться, а сами, небось, с первых трёх ходов загоните меня в угол...
Они сели по обе стороны круглого маленького столика, а Кантемир поместился рядом, изредка взглядывая на доску, попивая кофе и потягивая сладостный дым кальяна.
С каким же трепетом, с какой любовью взяла Мария в руки удивительные, изящно выточенные тяжёлые фигуры! Как предельно точно были вырезаны густые гривы коней, обточены зубцы крепостей-ладей и обведены резцом тонкие зубчики королевских корон!
Каким же нужно быть умельцем и любителем прекрасного, чтобы так выточить эти резные фигуры, так их отшлифовать, чтобы они сверкали в неверном пламени свечей, отливали блеском и перламутром...
И всю игру она даже не думала о ходах, а просто любовалась этими фигурами, и всё время перед её глазами стояли большие и сильные руки Петра, державшего эти фигуры, обтачивающего их на станке...
Потому она и проиграла сразу же, едва Пётр Андреевич погрузился в раздумье по поводу очередного хода.
— Поддалась, — безошибочно определил Толстой, когда она вскочила со своего места, чтобы уступить его отцу, — и зря, раньше ты хорошо играла. Ну и что — гость, могла бы и уважить старика, а не поддаваться ему так сразу...
— Да что вы, Пётр Андреич, — смеялась Мария, — это вы играете хорошо, и я вовсе вам не поддавалась...
Она села рядом и стала наблюдать за игрой. Толстой и Кантемир играли сосредоточенно и долго, думали над каждым ходом и не мешали Марии снова и снова любоваться красивыми шахматными фигурами, выточенными руками её рыцаря из мечты...
Они долго сидели при свечах, и Мария изредка вставала, чтобы удалить с них нагар, приказать принести новые кувшины сладкой воды со льдом из погреба, сварить новые порции кофе и заправить чубуки свежим душистым табаком.
Мария всё ждала, когда отец и Толстой закончат игру, чтобы унести, спрятать подальше от посторонних глаз дорогой для неё подарок, в который раз рассматривать его, и любоваться, и уходить в мечты так далеко, что реальность не сразу могла ворваться в её сознание...
Изредка отец и Толстой перебрасывались словами, и из них узнала она многие новости, бывшие уже старыми при петербургском дворе.
— У царицы теперь свой штат, — бросил Толстой, — вот бы и Марию к ней во фрейлины определить...
Кантемир неопределённо пожал плечами — он весь был во власти игры, и новости доходили до него словно бы издалека и какие-то нереальные, а Мария сразу вспыхнула.
Ей вспомнилась широкая, неуклюжая фигура Екатерины, её толстые пальцы, вздёрнутый нос и томные карие глаза, единственной целью которых была одна лишь страсть.
«О нет, только не это, — сразу же подумала она, — не дай мне Бог быть фрейлиной при царицыном дворе. Мне ли, наследнице и потомку византийских императоров, поклоняться шведской прачке?»
Она даже вздрогнула от нелепости этой мысли и тихонько сказала:
— Мне слишком нравится моё уединение, чтобы я согласилась быть при дворе новой царицы...
Толстой едва взглянул на Марию, тоже ещё во власти игры, но всё же понял её затаённые мысли, и опять знакомая усмешка искривила его губы.
«Гнушается, — брезгливо подумал он, — как же, кровь византийских императоров в ней...»
Но мысль мелькнула и пропала, а затем и вовсе испарилась из памяти старика, занятого игрой с серьёзным и уравновешенным противником.
Мария то и дело вскакивала, чтобы проверить, улеглись ли братья, всё ли заперто во дворе, приготовлена ли постель для гостя, и снова возвращалась, и снова следила за перипетиями игры, и любовалась отполированными изящными шахматными фигурами.
— Ох-ох, — поднялся наконец из-за столика Толстой, — старые косточки требуют отдыха...
Он протянул руку Кантемиру — удобная, долгая и красивая ничья устроила обоих.
Потрясли руки, поулыбались, и Мария проводила Толстого в его покои — всё здесь было приготовлено для старика с удобством, любовью и заботой.
— Что, не замужем ещё? — осторожно спросил Толстой, когда она собралась уходить из его комнаты.
— Пётр Андреич, скажете тоже, — смутилась вдруг Мария, — на кого брошу я отца, братьев, как оставлю дом без женского пригляда, без женского глаза, одна ведь я осталась в этой семье из женщин...
Толстой долго смотрел немного подслеповатыми стариковскими глазами в лицо Марии.
— А молодость уходит, — вдруг напомнил он, — заботы заботами, а твоя жизнь — это твоя судьба, а не судьба твоего отца или твоих братьев. Надобно немного подумать и о себе. Или не сватают? — сощурился он. — Так быть того не может, сама ты красавица, да и приданое небось отец выделил бы богатейшее...