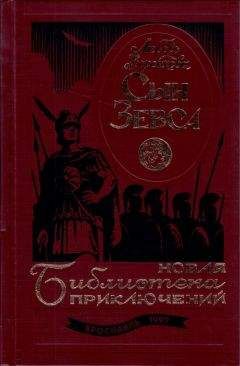Оказать им помощь? Или прогнать? Или лучше — уйти самому и провести ночь в ином логове?
Отшельник задумался лишь на мгновенье. А потом заговорил и ласково сказал:
— Пойдемте, я дам вам поесть. Разведу костер и уложу на постель из мха, так что вы сможете спать сколько угодно.
Сказав так, он хотел было приблизиться к ним, но мужики с дитятею отскочили в сторону и лишь после долгих уговоров согласились войти в скит.
— Мы беглые, — промолвил старший и, повторяя имя Быша, принялся рассказывать приключившуюся с ними историю.
Рассказывая, он пытался найти в словах утешение, но речь его была прерывиста и сумбурна, из одних вскриков-выкриков. Во всем сказывался страх, страх настолько красноречивый, что отшельник и без слов разгадал, о чем хотели поведать ему мужики. Он знал их дома, знакомо было ему и их поселенье на краю леса, и сами люди, что пасут стада и охотятся на зверя. Люд этот отличало миролюбие, и споры здесь никогда не кончались побоями, за которыми наступает смерть.
Размышляя о нравах, которые меняются с таким трудом, отшельник вдруг устрашился, что его гости — язычники.
«Наверное, им все еще не возвещено слово Иисуса Христа, — сказал он про себя, — наверное, они все еще пребывают во тьме, живут, верно, как нетель, и, может быть, сам Бог надоумил захватчика любым способом привести их в состояние любви. Пройдут-де чрез испытания, как сквозь узкие ворота, и там уготовит им Создатель спасение».
Придя к этому заключению, хотел было отшельник указать мужикам и мальчонке на дверь, но тут осенило его, что лучше приспособить их трудиться на полях перед скитом. Он не был уверен, что подобный замысел хорош; опасаясь восстановить против себя Быша, отшельник боялся, как бы добыча, сама по себе шедшая ему в руки, не улизнула; и чередой этих сменявших друг Друга чувств душа его распалилась до гнева. Стал он неприветлив, и поленья из его рук покатились сразу в кострище.
Сложив поленья колодцем, дождался отшельник, когда из клубов дыма взметнулось пламя, и стал приглядываться к невольникам. Взгляд его был мрачен, однако мужики, у которых отлегло от сердца, не обращали внимания на его гнев. Им приятно было греться у костра, откуда шло тепло, и дрожь, что еще недавно трясла их, окончательно унялась. Расслабились мускулы, и тело предвкушало прелесть близящегося отдохновения. Видя, какие они и впрямь сонные, вялые как мухи, как возвращается к ним покой и довольство, как жмурятся они, уставясь на огонь, отшельник угадал, что бодрствовать их заставляет лишь надежда на капельку теплого молока, и разразился упреками.
Раскричавшись, схватил он посуду и совсем уж собрался выплеснуть молоко в огонь, но тут мужики встряхнулись, вскочили с подстилок, а мальчонка принялся верещать.
— Бог, — орал отшельник, — дал вам уста, чтобы взывать к нему, а вы только жрете, уста нужны вам лишь затем, чтобы есть да пить. У меня тут припасено немного сыра и чуток молока, но, истинно говорю вам, вы не получите ничего, пока не отречетесь от своих заблуждений и не примете святое крещение.
Может, оно и неплохо было придумано, но мыслимо ли говорить с этими убогими об Иисусе? Укорять их? Ставить им в пример праведную жизнь святых? Куда там, напрасный труд! Зряшные хлопоты! Изгнанники его вовсе не слушали, а лишь, раззявив рты, глазели на вскипавшую молочную пену. Прошло довольно много времени, пока до них дошло, что отшельник сомневается, разделить ли с ними ужин. И стоило только выплеснуться первой капельке, набросились они на посудину и опустошили ее с такой постыдной беззастенчивостью, что бедный отшельник испугался и концом кочерги подгреб к себе поближе обушок — чтоб был под рукой.
— Бог, — твердил он, желая нагнать на них страху, — может повелеть продать вас в рабство на чужбину.
За этими словами вдруг послышалось глухое рокотание бури, и мужики отпрянули от света во тьму. И снова принялись стонать и сетовать, и один из них сказал:
— Отче, мы всегда будем поминать Бога, который отзывается на твои слова.
Отшельник не мог взять в толк, которого Бога они имеют в виду, и махнул рукой. Мысли его раздвоились, и поскольку не в силах он был ни прогнать рабов, ни держать у себя, выбросил он им из лачуги худую подстилку и устроил для них под деревьями кое-какое ложе. Дождь мало-помалу стихал, так что мужики и ребенок довольно скоро уснули. Зарывшись по уши в гороховую солому, они забылись легким и неспокойным сном. Отшельник между тем, опершись локтем о козлиную шкуру, погрузился в раздумье. Держался он сторожко, ни самой малой уверенности не было у него. Он не верил им. Не доверял их образу мыслей, и то и дело мерещилось ему, будто шуршат гороховые плети, будто высовываются оттуда распухшие лица и изодранные спины этих горемык. Он боялся, что не дотянет до утра, боялся, что дикари могут и придушить его, но, вслушиваясь в их ровное дыхание, не мог он вместе с тем не думать, что эти молодцы — вопреки своему внешнему виду и темноте души, — наверное все-таки славные люди.
«Человек, — сказал он себе, — впадает в рабство лишь по Божеской воле. Наш Господь повелел, чтобы эти двое и мальчонка жили в неволе. Содеял он так либо потому, что тяготеют над ними грехи их предков, либо — наверное, из расположения к ним, — желает он, чтобы стали они христианами. Наверное, положено им совершить некий поступок, после чего отверзнутся для них врата небесные. Может, именно их руками восславит Господь свой трон, может, пожелал Он, чтобы пеклись они о пропитании одинокого отшельника, может, для того и вырвал их из-под власти Быша, чтоб стерегли они мое стадо и валили лес. Я вижу перст Провидения в том, что нашли они путь в мою лачугу, что полный день брели по бездорожью, пока не наткнулись на мой скит. Могу ли я противиться установлению Божьему? Могу ли прогнать их? Могу ли отпустить их, чтобы и далее жили они как дикие звери? Могу ли отказать им в наставлении, ради которого, возможно, они сюда явились? Я упредил их — и эту мысль наверняка внушил мне добрый святой, — что продам их на чужбину, но сам, как видно, хоть упреждение было мудрым, не могу его разделить. Нет! Давно прошли те времена, когда таких молодцов продавали на чужбину! Нынче они обязаны трудиться на полях благословенного князя: ведь он господин всей незаселенной земли — и в поместьях духовных лиц, и на наделах наймитов. Таков нынче порядок и незыблемый устав, и благодаря такому установлению возрастает богатство княжеское и монастырское.»
Рассуждая так, отшельник, наконец, задремал, и когда ровное дыханье рабов разогнало его страхи, охватило его сочувствие к ним.
Померещилось ему, будто заглядывает он в жилище, где на стенах висят божки, почудилось ему, будто слышит он голос вещего старца, и вдруг увидел во сне все поселение.
Оно было погружено в сон. Мужики спокойно и ровно дышали, и отшельник видел, как то поднимаются, то опускаются их груди. Ощущал тепло, исходящее от их ложа, чувствовал, как нисходят к нему мир и покой, но внезапно его дремлющий дух стеснила тоска: ему привиделось войско. Оно двигалось в ночи, продиралось сквозь чащу. Наемники размахивали мечами, и буйное веселье рвалось из их глоток. Они шагали по опушке леса, все ближе и ближе подходя к поселению — вот уже достигли дверей лачуги, вот уже плашмя хлещут саблями, волокут пленных и надевают на них оковы.
Когда исчезла первая картина, в слабых проблесках ума узрел отшельник дергающиеся тела. Потом предстала перед ним толпа, состоящая из мужчин и женщин. Их гонят, будто стадо, и они падают под ударами, и заламывают руки, выкрикивая сквозь плач и отчаяние страшные проклятия.
И в ужасе пробудился он, и от жалости захолонуло его сердце. Он чувствовал, что в нем укрепляется воля творить дела добрые и успешные. Он чувствовал, что милосердие Божие опирается на его длань, и почудилось ему, что в шелесте листьев и шуме крон слышится голос, который обращается к нему и говорит: предоставь этим двум невольникам и ребенку прибежище и дай им пищу.
Послушный этому гласу, отшельник встал и разделил свой сыр на четыре доли. Потом разлил молоко в такое же число посудин и, разламывая на части большие ржаные лепешки, обдумывал, как обеспечить всех новыми топорами и как с помощью рабов поставить хлев и новый дом.
И случилось так, что почин отшельника был благословлен. Случилось так, что Господин всего мира приумножил его ульи и стада и пособил тому, чтоб его рабы подыскали себе женщин. Обнаружили они их где-то на берегах рек, что берут начало в торфяных болотах на расстоянии дня пути от поселения, коему дано было название «Пустынька».
История пленения женщин такова.
Когда правлению Бржетислава пошел десятый год, поселился в Польше какой-то старый рабовладелец. Было у него, лишь четверо слуг, и поскольку столь малому числу помощников легче управлять двадцатью женщинами, чем восьмьюдесятью мужчинами, да и на рынках рабыни ценятся дороже, чем рабы, решил он купить на продажу женщин. После того как сделка была совершена, двинулся он в путь-дорогу. Шел через Моравию, направляясь в Чехию, ибо пражский невольничий рынок был один из самых знаменитых. Шагая по Чешской земле, прослышал рабовладелец, что платить за молодых рабынь вчетверо больше, чем за то же число молодых рабов, давно перестали.