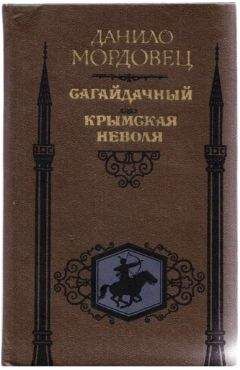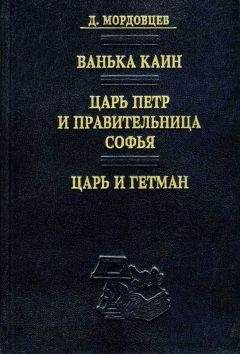Там Киев, Чигирин, Черкассы, «Дніпро-Славутич», «Великий Луг — батько» та «Січ-мати»... Там и «зозуля куе», и «соловейко щебече», «мак цвіте», «калина росте», «дівчата співають, козаків у неволі споминають»...
И не было для Пилипа ничего в свете милее его дорогой Украины... И для Петры Дюжово ничего в мире не было милее его дорогой московской сторонки, где «не белы снежки во поле белеются», «не одна дороженька в поле пролетает», где не мало «попила его буйная головушка: попила она, погуляла, что за батюшкиной да матушкиной за легкою за работой»...
Такие мысли проходили по душе наших полоняников, когда они медленно двигались гористою степью от Ак-Мечети к Карасу-Базару. Влево — все родное, милое, далекое, навеки потерянное. Вправо и впереди — чужое, страшное, неведомое. Сколько они ни шли, а вправо все высился к голубому небу суровый Чатырдаг, а от него, как бы цепляясь друг за дружку, темнели такие же почти великаны-горы, заслоняя собою чужое, неприветливое море. Но как ни тяжело у них было на душе, они старались казаться бодрыми, веселыми. Да и может ли запорожец в тугу вдаваться, ныть в какой бы то ни было неволе? На то он казак! А московскому ратному человеку тоже зазорно голову вешать. Вон он не забыл, как, стоя в карауле в Москве, у Лобного места, лет семь тому назад, видел, как казнили воровского атамана, Стеньку Разина. Разве он вешал нос? Нет! он бодро смотрел в очи всей Москве... «А Петра Дюжой чем хуже Стеньки? А эти поджарые, да горбоносые, да узкоглазые татаришки чем лучше московского стрельца? — думал про себя Петра. — Семи смертей не бывать, а одной не миновать...»
И вдруг, по странному капризу воли, в силу природной и нагулянной удали, стрелец, забрав как можно больше в свою широкую грудь воздуха, тряхнув рыжими волосами, затянул на всю степь сильным грудным голосом:
Уж ты поле мое, поле чистое.
Свет-раздольюшко широкое!
Чем ты, полюшко, приукрашено?
Приукрашено поле все твяточками,
Как твяточками-василечками.
Посреди-те поля част ракитов куст.
Под кустом-ту лежит тело белое,
Тело белое, молодецкое...
Молодой стрелец там убит лежит,
Не убит лежит — шибко раненой...
При первых звуках песни Гирейка встрепенулся, как ошпаренный кипятком: не взбесился ли уж рыжий «урус»? Не помешался ли, как это часто бывает с полоняниками? Так нет — он бодро глядит и, подперев правую щеку ладонью, забирает все выше и выше, соловьем заливается... И товарищ его, запорожец, смотрит весело... А песня так и льется... Со всех сторон, из всего загона, понаскакали татары, окружили Гирейкиных молодцев, дивуются, осклабляются, головами качают... «Якши — ай якши... Ля иллях иль аллах»...
И другие полоняники подходят, слушают...
Гирейка в восторге. Он видит, что это у него такой товар, за который дорого дадут на рынке в Кафе. Он сам был свидетелем, как один паша заплатил большие деньги за скворца за то только, что он хорошо пел, а другой паша купил за пригоршень золота для своего гарема попугая, которого старый дервиш научил выкрикивать: «Ля иллях иль аллах. Мухамед расуль аллах!» И он за своего певучего «москова» возьмет втридорога. А Пилип, слушая своего товарища стрельца, вспомнил, как он еще в детстве слышал от дидуся-сечевика рассказ о казаке Байде, как этого Байду турки повесили за ребро на крюк, а он не только не просил пощады, а напротив — попросил, чтобы ему перед смертью дали люльки покурить.
А когда стрелец, выкрикнувши всю песню, под конец заголосил на всю степь:
Что венчала меня сабля вострая
С молодой женой — пулей быстрою, —
один хохол-полоняник не вытерпел и даже свистнул:
— Ффью-у! Ишь, москва! От народец!..
Прошло еще несколько дней. И эта последняя партия невольников, как и все прежние, дойдя до Кафы, растаяла на базаре, как снежная лавина, спустившаяся в жаркую долину; как распроданное стадо овец, они давно томятся — кто на турецких галерах, кто в земле анадольской, кто в кизылбашской, кто в мультянской, а молодые бранки изнывают по гаремам, как говорит дума, — потурченные, побусурмененные для роскоши турецкой, для лакомства несчастного.
Стрелец Петра Дюжой за свои песни попал в самый Цареград и там, потеряв счет средам и пятницам, с отчаянья махнул рукой на посты и жрет скоромное в надежде, что когда бог его выручит из неволи, то он во всем покается попу на духу. Запорожец Пилип остался в Кафе: его купил паша для садовой работы.
И началась для вольного запорожца жизнь, полная томительного однообразия. С раннего утра до глубокой ночи, позвякивая цепями, которыми были закованы его ноги, он копался в саду своего господина, расчищая, подметая и посыпая песком садовые дорожки, поддерживая цветочные грядки и клумбы, очищая фонтаны, журчавшие в саду, поливая цветы и зеленый дерн, окаймляющий дорожки, гряды и клумбы, собирая листья и сушь от деревьев. Одно было для него утешением — это то, что в этой неволе, работая в саду под руководством старого глухого татарина-садовника, он сошелся с другим, ветхим-преветхим невольником же, который оказался немножко земляком и который томился в Крыму уже около десяти лет. Старый невольник оказался москалем, который находился уже во второй раз в неволе и много неслыханного рассказывал о своей первой неволе. Это был тот москаль, который перебывал когда-то и в анадольской, и кизылбашской земле, работал и на галерах, был и у фараонов, и у шпанского короля, у немцев-дуков, и во францовской земле у францовских немцев, и бусурманился, и все веры испробовал, и всякую нечисть едал — и все это ему было наплевать... Он рассказал своему новому товарищу, что теперешний господин их, Облай-Кадык-паша, купил его на базаре, лет около десяти тому назад, с двумя его, запорожца, землячками — с черкашенками, из которых старшая, живя в гареме у Облай-Кадык-паши, давно потурчилась и побусурманилась и уже нарожала паше с полдюжины черномазых пашат; а другая, которую паша купил маленькою девочкою, теперь выросла, стала красавицей писаной и скоро будет любимой пашихой их господина. Он же, старый москаль-невольник, рассказал, что он души не чаял всегда в этой девыньке, и хоть почти никогда ее не видит, но она помнит его, старого невольника, и иногда присылает ему с молоденьким евнухом, с черномазым арапчонком, каких-нибудь лакомств.
Запорожцу очень хотелось бы увидать своих землячек, но он так и не видал их: хоть одно окно из гарема и выходило в сад, но оно всегда было завешено; а сами жены паши выходили в сад, в сопровождении евнуха-арапчонка и старухи, только по ночам или когда в саду никого не было.
Другим утешением для молодого невольника служило то, что сад их господина глядел на море. Какой-то неизъяснимой тоской и умилением ныло сердце невольника, когда он видел в море турецкую галеру-каторгу, на которой работали прикованные к ней казаки-невольники и иногда пели грустные песни, напоминавшие им о далекой родине, о дорогой Украине, и невольному садовнику-запорожцу они напоминали о том же далеком, навеки потерянном рае.
Раз как-то, работая по обыкновению в саду, он увидал рабочую большую галеру, которая тянула за собою несколько нагруженных турецких судов. На море стояла тишь, и потому суда могли двигаться только на буксире у галеры, которая работала веслами. Галера шла близко от берега, а так как сад Кадык-паши выходил к морю, к берегу, от которого отделен был высокою железною решеткою, густо проросшею темною зеленью дикого виноградника, то и видно было, что на веслах работали невольники: виднелись черные лица эфиопов, но большею частью, собственно за веслами, сидели люди, в которых нельзя было не узнать украинцев. Это были действительно казаки-невольники, почти голые, с обросшими бородами и давно небритыми головами. Галера шла необыкновенно тихо.
Пилип перестал работать, оперся на заступ и следил глазами за галерой: видны были даже лица невольников. Вдруг на галере раздалось тихое пение, словно бы кто плакал... Сердце запорожца так и заныло тоскою... Тихий голос пел:
Що на Чорному Mopi
Та на білому камені,
Там стояла темниця кам'яная.
Що у тій-то темниці
Пробувало сімсот козаків,
Бідних невольників...
Пилипу знакома была эта невольницкая дума. Он слыхал ее и в детстве, на площадях родного Каменца, и на базарах, и уже в Запорожье потом. Дума эта всегда вызывала слезы у слушателей. И Пилип всегда слушал ее с болью в сердце и всегда, бывало, думал: «А каково-то им самим, этим невольникам, о которых поет дума? Что они, бедные, чувствуют?»... И вдруг он слышит эту думу теперь, когда сам стал невольником, и хотя томится не тридцать лет, как те, что в думе, и не лишен видеть ни «світу божого», ни «сонця праведного», однако все же в неволе...