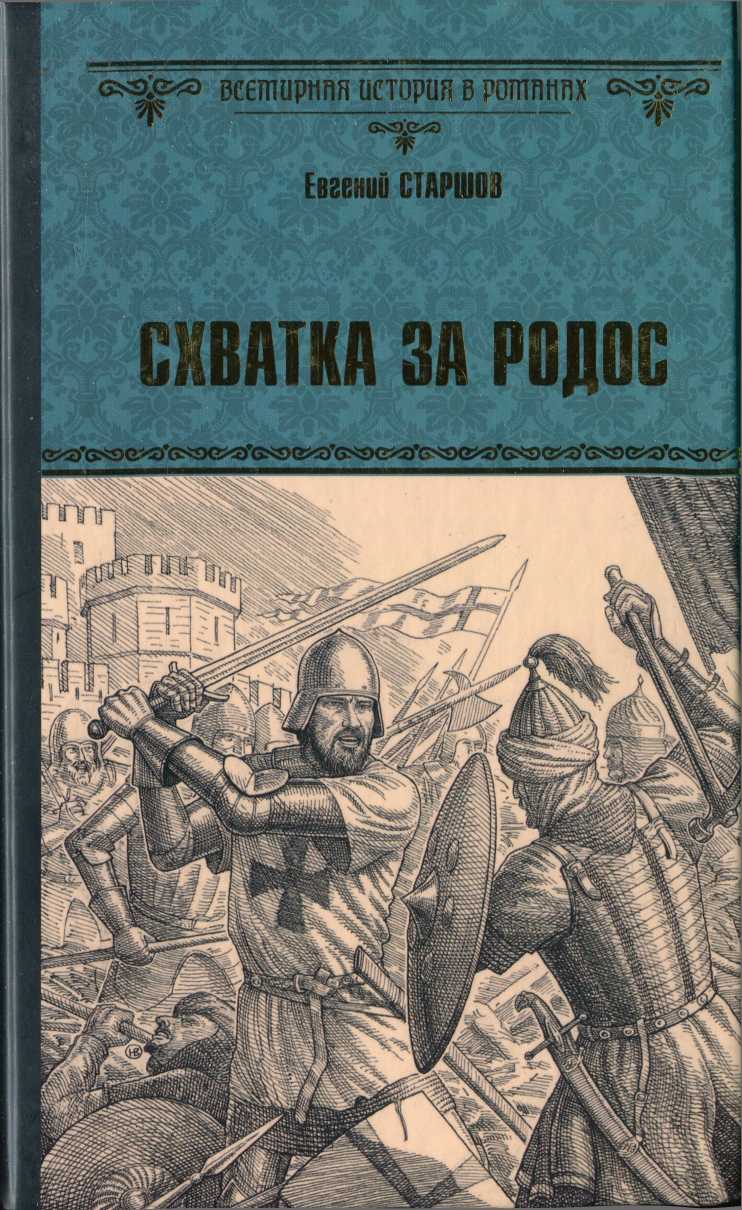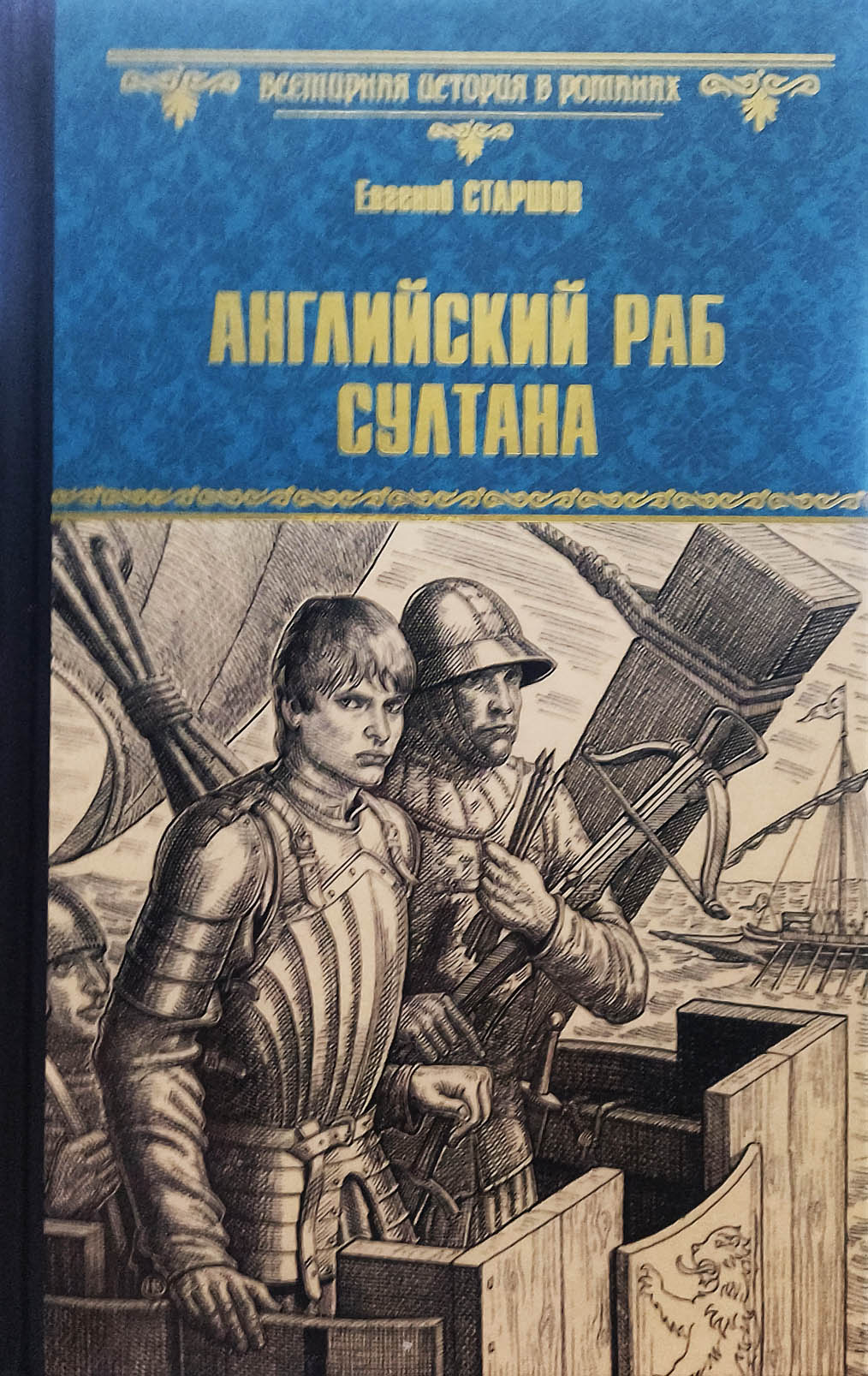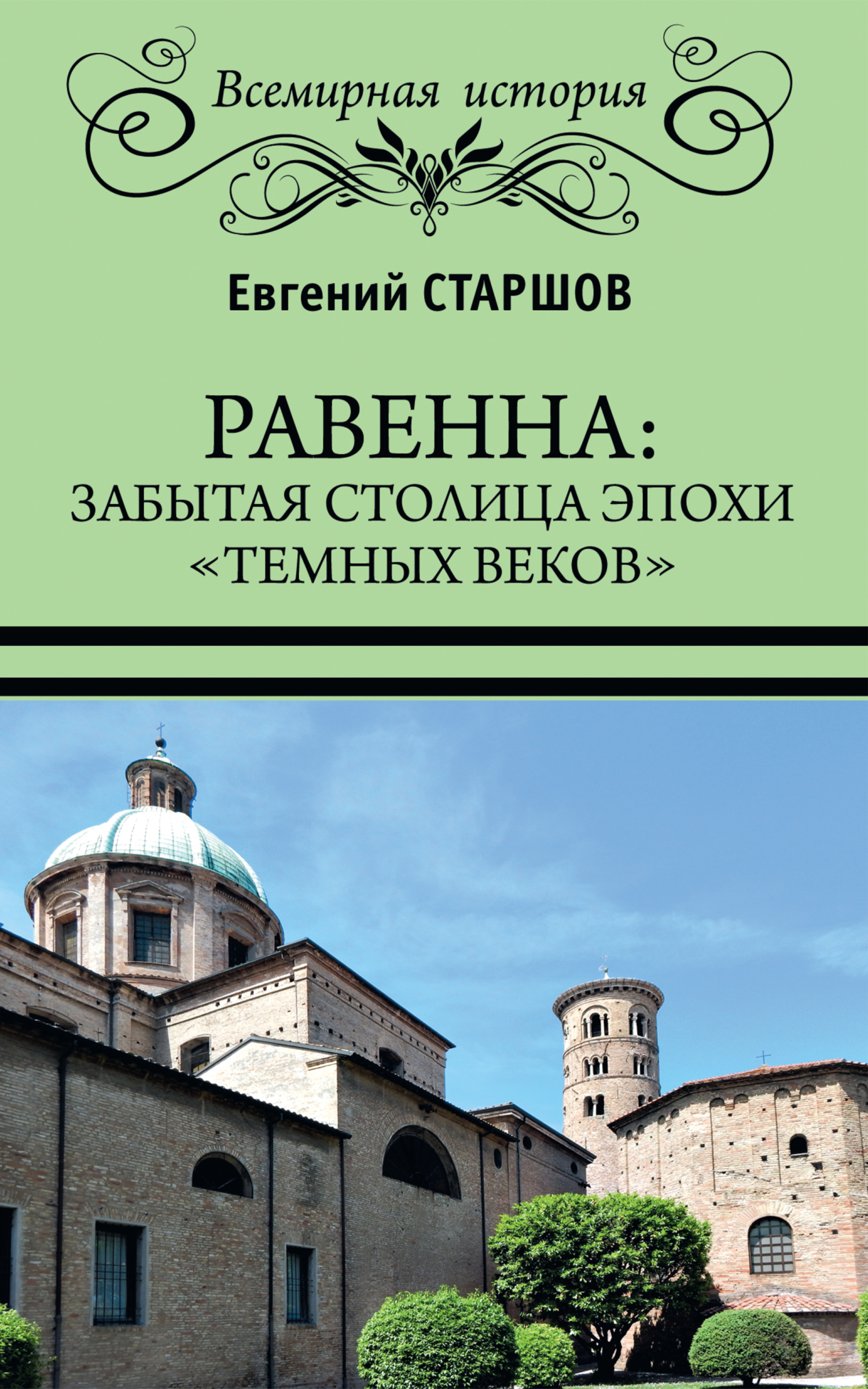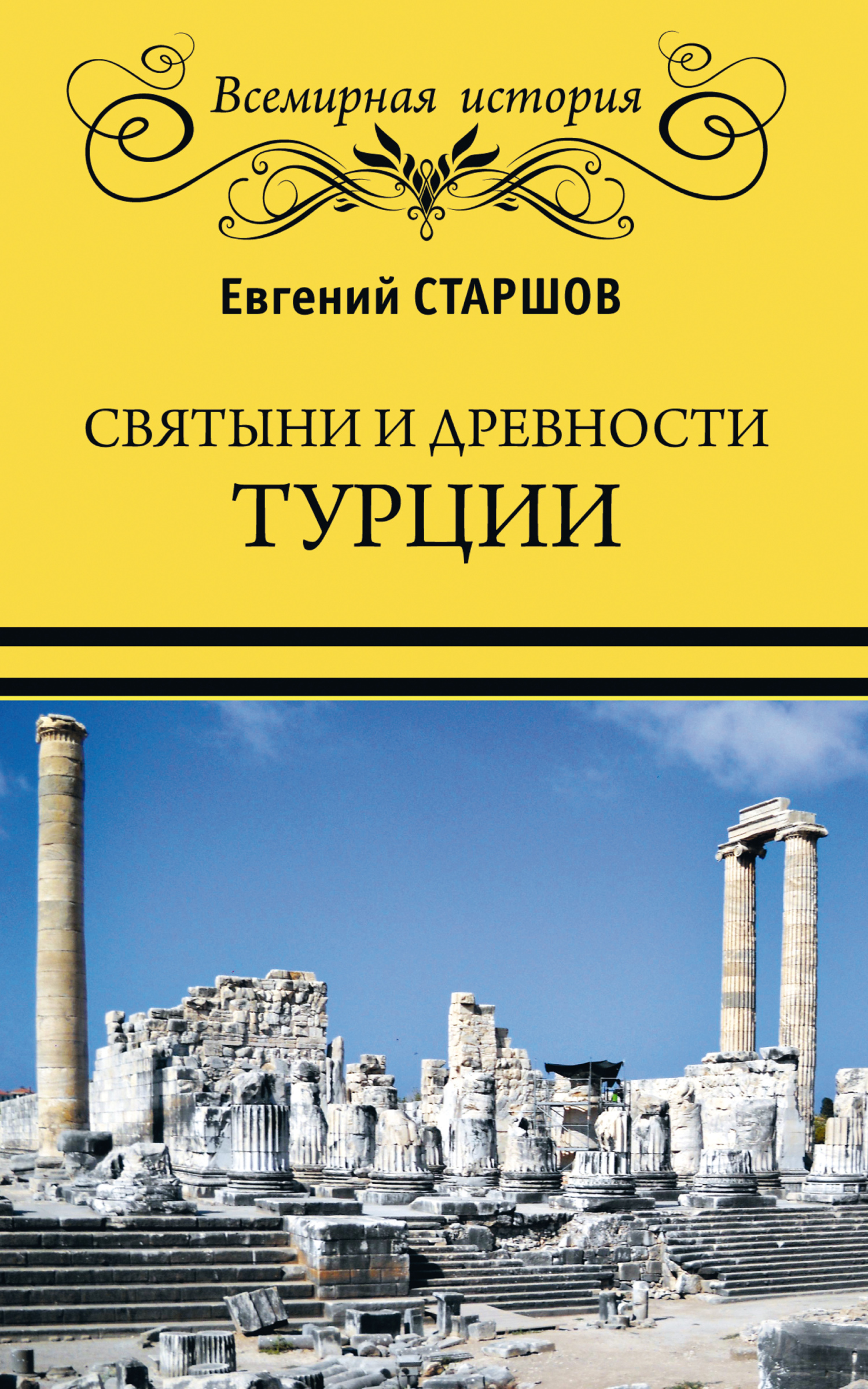которая наверняка ему уже целый букет рогов навертела!.. Человек мрачный, свирепый, зачастую грубый, Ньюпорт почувствовал, как и в его душе шевельнулось что-то похожее, давно забытое средь битв, попоек и веселых греческих шлюх… Жила же в селе веселая гусятница Энни… Но суровая родня предпочла сделать из него, младшего сына, которому ничего из наследства не светило, воина-монаха, иоаннита, славу рода, которым можно было похвастаться перед соседями и содержание которого им отныне ничего не стоило… И так он оказался на Родосе — пил, буянил, хулиганил, сквернословил, прелюбодействовал с гречанками, словно не монах он, а типичный английский сквайр, забавляющийся от сельской скуки. И ему все с рук сходило, хоть в глубине души он надеялся на то, что его в конце концов разжалуют… Но слишком нужен был воинственному ордену столь искусный боец, а теперь еще и артиллерист… Впрочем, что ж он о себе?.. Вот друга жалко. Что ж он, до конца жизни помешался?.. Посмотрим…
Так рыцарь Лео Торнвилль в момент величайшего торжества родосцев попал в госпиталь под надзор санитаров, израненный и обезумевший. Но эскулапам пока было не до него, им нужно было спасать от смерти получивших тяжкие физические раны, до эмоциональных руки пока не доходили. Консилиум врачей с горечью констатировал, что, по крайней мере, одна из ран магистра д’Обюссона — смертельная, и следующий день, казалось, подтвердил их худшие прогнозы. Все жители города Родоса знали, что великий магистр прощается с жизнью, которой он пожертвовал за них, и поэтому праздник великой победы обратился, по сути, в день великой скорби.
Во всех храмах служились молебны во здравие великого магистра и прочих, в злой сече пострадавших, и об упокоении убитых. День и ночь дежурили у одра тяжело раненного посеревший от забот летописец вице-канцлер Каурсэн, легко раненый секретарь Филельфус и опытнейшие орденские лекари. Временами магистр впадал в забытье, и казалось, что уже начинается агония. Д’Обюссон дышал тяжело, хрипел, рана напротив легкого не затягивалась и кроваво пузырилась. Испарина покрывала его восковой лоб, но всегда, как только ему становилось хоть немного легче, он еле слышно спрашивал:
— Что турки?..
— Так и не пришли в себя, — ласково говорил Каурсэн. — В полном замешательстве… Слышишь, господин? Тишина! Нет обстрела. Много пушек повредили наши… Три тысячи пятьсот вражьих трупов насчитали, жжем потихонечку.
— А холм Святого Стефана — он в чьих руках?
— В турецких, — тут уж, в противоположность утешителю Каурсэну, вступал в разговор каркающий Филельфус. — Нам же нечем и некем оборонять его. Хотя лагерь их разорен чрезвычайно, тут нечего сказать.
— Они готовят атаку… Надо, чтобы… ворота… Передайте брату… — и переволновавшийся д’Обюссон вновь впадал в забытье.
Каурсэн показывал секретарю кулак, но итальянец лишь брезгливо отворачивался от сего жеста, считая ниже своего достоинства вступать в препирательства с не-рыцарем.
Гийом хватался за голову, и предательские слезы текли по его щекам. Сухарь Филельфус, вздыхая, сочувственно хлопал его по колену — все, мол, понятно, о чем речь… Отца лишаемся!..
Сознание все реже возвращалось к д’Обюссону, он постоянно спрашивал о своих соратниках, и хотя ему отвечали, что брат его жив и все семь "столпов" пока тоже, он не запоминал ответов и спрашивал снова. По-видимому, приближался конец.
Но и в другом лагере, понятно дело, радости было мало. Несмотря на робкие уговоры анатолийского бейлербея и прозрачные намеки Али-бея, Мизак-паша уже твердо решил, что кампания проиграна. Он успокаивал себя тем, что все от него зависящее он сделал, и даже сам шел вместе с янычарами на штурм, ну а что Аллах не захотел даровать победу — так в первый раз, что ли? Сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был разбит в битве при Ухуде, что говорить… Даже в этом можно найти оправдание: значит, у Всевышнего какие-то особые мысли по поводу иоаннитов. Может, эти нечестивцы не преисполнили еще чашу гнева Его? Так кто же такой он, Мизак, чтобы идти супротив воли Аллаха?..
В общем, когда турки робко вернулись на холм Святого Стефана и провели скорбную инвентаризацию, визирь решил потихонечку эвакуироваться. Османы деловито собирали целые и битые пушки, затем тащили их на суда, а также оружие, шатры, янычарские котлы… Было очевидно, что османы уже не могли победить, а родосцы — довершить свою победу.
Мизака интересовало, жив его главный враг или умер.
— А разве от этого хоть что-нибудь зависит? — хмуро поинтересовался Али-бей.
— Многое… Если даже и не сейчас… Им такого руководителя еще поискать, и если к нашему возвращению, да соизволит Аллах, он станет добычей червей, этим уже пол дела будет сделано…
— Оправдание себе ищешь?
— Нет, злобу тешу! Если магистр мертв — значит, не так безуспешно мы здесь два месяца с лишним проторчали. Кроме того, стены Родоса — не грибы после дождя, сами по себе не вырастут… На все нужно время, которое работает не на них…
— Мне нравится твое настроение и ход мыслей, Мизак-паша… Главное, пережить первый удар гнева великого падишаха, а там…
Так успокаивали себя турки; что же христиан, то все они по-прежнему скатывались из крайности в крайность, то не веря себе, что кошмар закончился, то переживая за магистра, находившегося на грани жизни и смерти…
18
Врачи ошиблись — д’Обюссону стало лучше, кризис миновал на третий день. Измученные верные Филельфус и Каурсэн заснули прямо при нем; рука по привычке искала широкие лбы псов, чтоб погладить — но их не было…
— Где… где детушки мои? — спросил он еле слышно.
Ему никто не отвечал, боясь дурной вестью ухудшить его положение, но он был настойчив в своих расспросах.
Потом… он понял все, замолчал, и слезы потекли по его лицу… Всех, всех людей жалко, но его псы, его верные, любимые полосатики… Боже, за что Ты отнял их?.. Чем они провинились пред Тобою?.. Какими грехами? За что Ты их… Перед глазами стояли они… Как объяснить другим, что они заменили ему то, в чем ему отказала судьба? Добрую подругу жизни, почтительных и славных сыновей? А когда дурачились, он видел в них забавных внуков… Их карие глаза так и смотрят в душу, то ли с любовью, которую они продолжают излучать, находясь уже по ту сторону жизни, то ли с мягким укором, что он все же мог бы что-нибудь сделать для того, чтобы уберечь их от смерти?..
Ему сказали, что они погибли, спасая его на стене, но от этого ему не стало легче; он только старался, чтоб это его горе не столь явственно прорывалось наружу,