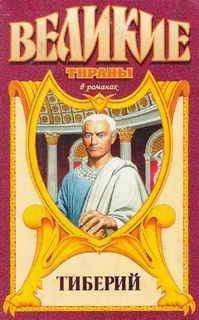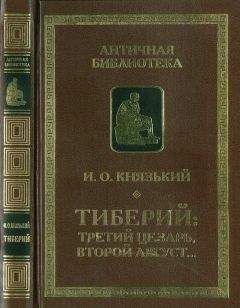Не только отвагой удивляли иллирийцы, но и благородством, которого от варваров еще меньше можно было ожидать. Однажды произошел случай, заставивший многих, и Тиберия в том числе, относиться к противнику по-иному, с большим уважением.
Двенадцатый Италийский легион, под командованием самого Тиберия, шел на соединение с двумя другими легионами, что находились недалеко от морского побережья, на временной стоянке. Там был и Германик. В этом месте Тиберий хотел начать строительство еще одного базового лагеря и пристани, чтобы без задержек получать продовольствие из Италии морем. Дорога пролегала через длинное и узкое ущелье, с почти отвесными скалами по обе стороны. Разумеется, опытный Тиберий, прежде чем войти туда, целый день потратил на разведку окрестностей. Разведчики добросовестно обшаривали покрытые лесом горы, поднимали каждую корягу, если она казалась им замаскированным входом в скрытое убежище, — и никого не обнаружили.
Такое полное отсутствие врага могло навести на подозрения, но все же Тиберий решился войти в ущелье. Чем быстрее легион проскочит опасное место, тем лучше.
Вскоре ему пришлось жестоко проклясть собственную решительность: едва выстроенные в колонну по три — из-за тесноты — легионеры растянулись по дну ущелья, как сзади послышался грохот обвала, а секунду спустя — такой же звук от падающих глыб камня раздался далеко впереди. Нечего было и выяснять — легион, да еще во главе с самим Тиберием, оказался в западне. Словно в подтверждение этой страшной догадки на вершинах скал по обеим сторонам ущелья появилось вдруг множество иллирийцев — и это многократно усилило их торжествующий рев.
Они могли делать с римлянами все что угодно. Могли забросать камнями или горящими бревнами. Могли просто уморить голодом, не позволив разобрать завалы. Сверху противник кажется совсем маленьким, и такой же незначительной становится его сила. Толкни ногой камень — и он сделает за тебя всю работу, разбив кому-нибудь голову или переломив спину.
Тиберий, рыча от злости, метался по ущелью вдоль своего войска. Надо было расставить солдат как можно ближе к стенам, укрыть их под выступами, которых было до обидного мало. Он даже не сразу обратил внимание на то, что иллирийцы не торопятся начинать уничтожение его легиона. Тиберий первым делом принялся искать разведчиков, доложивших ему, что дорога свободна и никакой опасности нет.
Их быстро доставили к нему, уже связанных, помертвевших от ужаса. Бросили на колени перед взбешенным главнокомандующим-. Но не успел центурион отрубить вторую голову, как с высоты неожиданно раздался голос, зовущий Тиберия по имени. В ущелье воцарилась мгновенная тишина — можно было только слышать, как скрипит гравием мертвое тело, еще не переставшее дрыгать ногами. Тиберий посмотрел вверх и увидел главного своего противника — Батона, вождя восставших иллирийцев.
Батон — высокий чернобородый человек — на ломаной, но вполне понятной латыни произнес речь. Смысл ее сводился к тому, что он дарит Тиберию и его солдатам жизнь, предлагая в ответ на эту услугу прекратить войну и беспрепятственно увести войска в Италию. Рим ничего не сможет добиться здесь, кричал сверху Батон, — разве что лишится многих тысяч своих граждан. В военной хитрости и отваге иллирийцев Тиберий мог уже убедиться неоднократно — так пусть же убедится и в том, что Иллирик не будет врагом Риму, здешние жители хотят лишь свободы и независимости. Тиберий слушал эту речь, сгорая от стыда, потому что солдаты видели, как он внимательно слушает, не перебивая и не имея сил оторвать взгляда, направленного на Батона снизу сверх.
Закончив говорить, Батон махнул рукой — и вершины скал опустели. Ни один камень, ни одна стрела или варварское копье не слетели оттуда. О таком благородстве никто и не слышал раньше. Оно было таким явным и в то же время величественным, что хотелось о нем поскорее забыть, чтобы не так остро чувствовать собственное несовершенство. Тиберий перевел дух и понял, что о случившемся не станет широко известно — мало кто решится в Риме рассказывать о великодушии варваров, с которого не стыдно брать пример для подражания. Он велел поскорее порубить головы связанным разведчикам и, даже не посмотрев на казнь, отправился вперед, к завалу, преграждавшему путь, чтобы определить, сколько времени уйдет на его разборку и не слишком ли это задержит продвижение войска к месту назначения.
К вечеру завал был разобран настолько, что стало возможно протащить через него и обоз с военной техникой. Поспешно покинув ущелье, легион двинулся дальше, не останавливаясь на ночлег. Тиберий рассудил, что благородный Батон не станет нападать на них ночью, раз уж отпустил с миром. Так оно и вышло. До самого побережья римляне не встретили больше ни одной засады и ни разу не подверглись нападению. Едва поздоровавшись с Германиком, Тиберий потребовал от него начинать строительство лагеря.
Разумеется, ни о каком прекращении войны и речи быть не могло. Батон хоть и выучил латынь, но оставался диким варваром, не понимающим, что такое интересы государства (величайшего из государств) и воля императора (величайшего из земных властителей). Спасибо ему, конечно, что он сохранил Тиберию жизнь, но все же Иллирик будет покорен. Тиберий был благодарен Батону еще и за науку, которая позволила ему избрать самый действенный метод борьбы с непокорным племенем.
Не нужно было больше никаких маневров и стратегического мудрствования. Всю армию следовало собрать в одном месте и планомерно двигаться по вражеской территории, все, что движется, предавая мечу, и все, что горит, — огню. Там, где пройдет римское войско, должна оставаться черная от угля и красная от крови земля. Этих полудиких, кичащихся воинской доблестью и великодушием, можно победить только так.
Война продолжалась. Но даже и тот безжалостный метод ее ведения, который выбрал Тиберий, не привел к быстрому желаемому результату. Жестокость порождала ответную жестокость и еще более изощренную хитрость врага. Тиберий отправлял в Рим подробные доклады, в которых отчитывался за каждый свой шаг и обосновывал необходимость доведения до конца этой тяжелой и разорительно дорогой войны. Но на тех же кораблях, что везли в Италию его послания, домой возвращались покалеченные и уволенные со службы солдаты. Они наперебой рассказывали всю правду об ужасах паннонской кампании (а многие и кормились этими рассказами по тавернам и помещичьим усадьбам, беря со слушателей, разевающих рты, плату деньгами и продуктами). Слухи достигли Рима, их стали обсуждать сенаторы, потом забеспокоился и Август: казна пустеет, городские улицы заполняются просящими подаяние инвалидами (которых государство не в силах содержать), по всей Италии каждый день голосят все новые и новые десятки и сотни вдов и сирот, а конца войне что-то не видно, и, если верить слухам, а не донесениям главнокомандующего, она может тянуться до бесконечности, пока не высосет из империи все соки.
Вызвав к себе во дворец на приватное совещание нескольких особо приближенных сенаторов (в их числе и Марка Кокцея Нерву), Август поставил вопрос прямо: стоит продолжать войну или пусть этот Иллирик отделяется — до тех пор, пока у Рима не будет достаточно сил, чтобы снова присоединить его. Общее решение было таким: приостановить военные действия и отозвать Тиберия. Сенаторы видели, что Август колеблется — иначе не пригласил бы их, — и хотели выглядеть в его глазах людьми разумными и заботящимися о сохранности государственной казны.
Тиберию был послан приказ вывести войска из Паннонии и возвращаться в Рим. В ожидании его возвращения сенат разрабатывал проект торжественного эдикта по случаю окончания войны: все надо было оформить так, чтобы это не выглядело поражением. Уже столько лет Рим не знал поражений! Смысл эдикта должен был сводиться к тому, что мятежный Иллирик примерно наказан — он почувствовал тяжелую руку империи на своей шкуре и еще долго не опомнится и не посмеет бунтовать.
Ответ (лично Августу) от Тиберия пришел совершенно неожиданный. Впервые в жизни Тиберий посмел ослушаться. Он писал, что отвести войска — значит показать врагу свою слабость. Почувствовав себя победителями, паннонцы перейдут в наступление и начнут мстить Риму за все обиды — а таких обид войско Тиберия успело нанести за время войны довольно много. Боевые действия продолжатся, писал Тиберий, и закончатся только после полной капитуляции противника.
Ответ Тиберия стал широко известен в Риме. И вызвал общее воодушевление. Тиберий Клавдий, которого в высших кругах (да и не только в высших) привыкли считать бездушным исполнителем приказов, не очень-то умным человеком с весьма сомнительной репутацией, неожиданно предстал перед всеми в ореоле доблестного полководца, национального героя, для которого честь и слава Рима дороже собственной жизни.