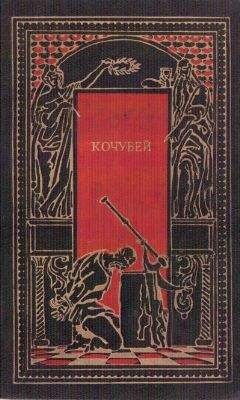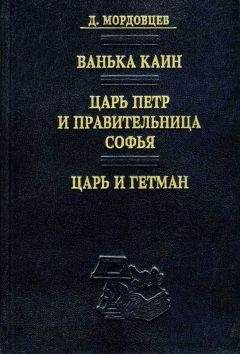— Боже, благoдарю тебя! — слышалось из-за перегородки. — Сна мне нет от великого счастья... Какой день, никой славный день...
Послышался шорох бумаги, хруст взламываемого сургуча... У Ягужинского сердце упало... Скоро, сейчас он увидит это страшное...
— Эх, бедный, бедный Кенигсек! Не дожил ты до моего счастья, — слышался тихий, задумчивый говор царя с самим собою. — Посмотрим, что-то у тебя тут есть... А! Что это такое?
«Страшное... страшное увидал», — думал Павлуша, дрожа всем телом.
— Аннушка... Анна Монцова... Как она к нему попала!.. И письма её — знакомая рука... Так вот она как... Так вот где змея подколодная... А! «зейн гетрейсте бет ин мейн дот»... как и мне писала... «по гроб верная»... А! Шлюха...
Что-то звякнуло, разломилось, хрустнуло... Упала табуретка...
— На дыбу!.. На плаху!.. Нет!.. На кол, на кол немецкое отродье!..
Голос царя страшен. Он быстро ходит по обширной палатке, роняя и разбрасывая всё, что попадалось ему на пути... Потом он снова шуршал бумагами, комкал их, бормотал несвязные слова...
— Вот тебе и радость, вот тебе и виктория... Что же! Из-за сей мрази радость великую погубить? Нет! Не люба мне была Москва, а теперь стала ещё постылее. Там Убить меня хотели, в Москве же и обманули меня... К чёрту Москву! У меня есть новое место для столицы, и отныне будет оно моим парадизом и парадизом всего российского царства...
Ягужинский стал спокойнее прислушиваться. Он знал, что когда беспокойный царь заговорит о российском царстве, о его славе, то всё другое, личное, уже менее острым становится для него.
— Я здесь сооружу мою новую столицу... Се будет новый мех, и в новый мех я волью новое вино, и просвещение, и новые доблести российские... А Москва пусть останется Москвою... Ишь ты! Москва-де сердце России, ну, ин и пусть останется сердцем, кое присно живёт в разладе с рассудком... Так и Москва. А эта немка Анна... Что ж! Пускай её... не любит уж... Да и любила ли, полно? Не царя ли видела во мне, а не любовника? Да, любить и царь не может заставить...
Ягужинский видел, как громадная тень царя наклонилась над столом. Голова опустилась на руки. Тихо стало о палатке.
— А эта. Марта, что ли? Какие глаза — чистые, невинные... Может, эта и полюбит не как царя... Ну, да благо, быть здесь «Питербургу»!
Царь даже кулаком об стол стукнул... Потом зашуршала бумага, заскрипело перо.
Под скрип царского пера и уснул Павлуша Ягужинский.
Малороссия... Украина... Всегда, во все века исторической жизни русской земли крап этот выступал из могильного мрака истории под дымкою очарования, поэзии, чего-то чудесного... Да, чудесное, героическое, легендарное прошло и сквозь всю историю этого симпатичного, но несчастного края. Яркость исторических красок так и бьёт в глаза, когда вы переноситесь в прошедшее Украины: первые богатыри народного эпоса, богатыри стихийные и полумифы, потом богатыри-запорожцы, гетманы, казаки, гайдамаки, чумаки — на всём этом лежит печать поэзии.
…………………………………………………..
— Що се ты, доню, читаешь?
— — Та се, мамо, про блудного сына.
— Що ж воно, из евангелии, из святого Письма?
— Ни мамо, се комедия.
— Яка, доню, комедия!
— Воно, мамо, виршами писано.
— А хто его написав?
— Симеон Полоцький, мамо.
— Що ж воно там пише?
— Та пише, мамо, що у одного человека було два сыны, старший, тихий та слухьяный, а меньший, якiиеь козакуватый, непокiйный, мов запорожскiй козак: «Отпусти та отпустив, каже, «мене, тату»...
— Та сё ж и святе Письмо так пише... Яка ж се комедия, доню?
— Ах, мамцю. яко-бо ты! Тут вирши...
— Так що ж шо вирши?
— Тим воно й комедия называется.
— А ну-ну, почитай, я послухаю, ще воно таке е.
— Слухай, мамо... Ото вин, меньший сын, уже на воли, десь у чужiй земли... Слухай, мамцю, шо вин каже:
Бех у отца моего яко раб пленённый,
Во пределах домовых як в тюрьме заключённый.
Ни что бяше свободно по воле творити.
Ждах обеда, вечери, хотяй ясти, пити,
Не свободно играти, в гости не пущано,
А на красные лица зретя запрещено...
— Овва! Се б то его батько на вечерници не пмскав...
— Ни, мамо, яка-бо ты! Слухай...
— Та кого ж слухать! Волоцюга — волоцюга и есть... Одно слово, блудный сын, Семён Палий...
— Ну, вже, яка-бо ты, мамцю! А люди кажуть, що Палий такiй козак, якого и в свити нема.
— Не всё то правда, що люди кажуть.
— Як же-ж, мамо? Вин за виру стоит!
Так говорили между собою мать и дочь: дочь Мотрёнька Кочубей. Зачем Пушкин назвал Мотрёньку «Марией»? Разве не благозвучно было бы это имя в поэме? — Вероятно. А может быть, Пушкину неизвестно было настоящее имя знаменитой дочери Кочубея.
Горница, в которой сидят мать с дочерью, не похожа на то, что в настоящее время разумеется под комнатами лютей среднего состояния а в особенности богатых. Это ни зала, ни гостиная, ни кабинет, ни столовая, ни уборная, ни спальня, — просто горница. Четыре окна её выходят непременно в «вишнёвый садочек». Вдоль двух стен горницы тянутся широкие лавки, которые сходятся в переднем углу, украшенном богатою киотою. В киоте блестят иконы в золотых и серебряных окладах. Самый бога тын оклад на образе «Покровы», это наиболее почитаемая икона украинца.
У других стен горницы несколько резных, с прямыми стенками стульев, и там же шкапы и поставцы, наполненные серебряною и золотою посудою. Особенным богатством отличаются кубки, между которыми есть и дорогой, итальянской работы. Верхние половины шкапов стеклянные, а нижние глухие, с глухими дверцами. Дверцы эти изукрашены рисунками, малёванными масляными красками. Рисунки большею частью из народной жизни и истории, а также из священного Писания и нравоучительные. Так на одном изображены два человека, стоящие друг против друга; у одного в глазу нарисован сук, а у другого целое бревно. Подпись гласит:
У ближнего в оци бачишь маленькiй сучок,
А в себе не бачишь здоровый дручок.
На другом рисунке изображены «казак» и «москаль»; последний держит первого за полу, которую первый обрезывает саблей. Подпись: «Вид москаля полу врижь та втикай». На третьем рисунке: «козак» и «лях», которые жмут друг другу руку, а козак другую руку держит за пазухой. Подпись гласит: «3 ляхом дружи, а каминь за пазухою держи».
«Стара Кочубеиха» смотрит ещё женщиной не старой и красивой, но в этой красоте не видно уже привлекательности, нежности и обаяния молодости. Скорее в красоте этой есть что-то отталкивающее, жестокое и надменное. Движения её изобличают желание властвовать повелевать, и если сфера этого владычества является ограниченной, то она превращается в семейный деспотизм, в форме держания мужа под башмаком, а детей в ежовых рукавицах. Перед Кочубеихой прислуга должна непременно трепетать, ходить в страхе Божием и исполнять приказания госпожи, а движения её бровей и глаз, мановения руки и понимать, её молчание. Недаром Мазепа, которому Кочубеиха немало насолила, называл её женою гордою и велеречивою.
— На Кочубеиху треба доброго муштука, як на брикливу кобылу, — не раз говорил он.
— Як бы не вы, Иван Степанович, — замечал на это лукавый Семён Палий, — то вона б давно була гетьманом.
Кочубеиха, подойдя к Мотрёньке, стала рассматривать лежащую перед ней книгу.
— Кто се тоби дав таку книгу? — спросила она.
— Пан гетьман, мамо, — отвечала Мотрёнька.
— От-ще! Старый собака, задумав вчити чужу дитину.
— Ну вже яко-бо ты, мамцю! За що ты его не любить! — возразила девушка, глядя на мать. — Вин такiй добрый…
— Добрый, як кит до сала.
— Та ни бо, мамо, вин мени и ласощив дае.
— Знаю, бо сам дуже лысый...
— Та за що ж ты его, мамцю, не любишь? — настаивала Мотрёнька, ласкаясь к матери.
— За те, що ты ще дурне, — отвечала Кочубеиха, гладя голову дочери.
— Та ну бо, мамчику, скажи, за ви що? — ласкалась девушка.
— Выростешь, тоди сама знатимешь.
— Ах, мамо! Та я выросла вже...
— Выросла, тa ума не вынесла.
— Ну, яка-бо ты мамо... мени вже скоро симнадцатый рик буде…
— Знаю... а молоко мтеринськое он ще и доси на губах не обсохло... — И Кочубеиха тронула Мотрёньку по губам.
— Ни, обсохло, мамцю, — лукаво возражала девушка. — Я знаю, за що...
— А за що бо? Ну, скажи, Мотрона Васильивна, будте ласкови.