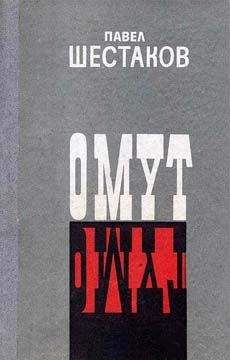— Открывайте и поднимайтесь поскорее, если хотите жить! Положение отчаянное!
Просыпаясь, Барановский узнал голос штабс-капитана Федорова. Ему всегда нравился этот умелый и интеллигентный офицер, но за последнее время у Федорова, как и у многих, заметно сдали нервы.
— Не кричите, штабс-капитан! Чтобы открыть, нужно сначала подняться. Что еще стряслось?
— Я из оперативной части. Только что сообщили. Измена. Кубанцы пропустили Буденного возле Белой Глины. Красные в тылу. Идут на Тихорецкую.
Конский и людской топот, скрип подвод, матерная ругань, доносившиеся с улицы, подтверждали мрачную оперативную сводку.
Барановский выругался:
— Самостийная сволочь! Хведералисты, мать их…
Как и все «добровольцы», он глубоко презирал кубанских союзников Деникина, постоянно отстаивавших иллюзорную самостоятельность, и приветствовал погром, учиненный генералом Покровским в Краевой раде в Екатеринодаре в ноябре девятнадцатого года.
— Всех нужно было повесить! Всех! Вы понимаете, Федоров?!
Но штабс-капитан, лихорадочно блестя глазами из-под накинутого на фуражку башлыка, только махнул рукой.
— Поспешайте, Барановский. Я за Софи…
Софи была невестой Федорова. Происходившая из обрусевшей французской семьи, она сестрой милосердия прошла «ледяной» корниловский поход и с тех пор не оставляла армию.
— Да, конечно. Спасайте Софи. Спасибо, что подняли.
— Встретимся на вокзале., Уедем с санитарным поездом. Вы ведь раненый.
И Федоров исчез в темноте.
Барановский с усилием продел раненую руку в рукав шинели. Было больно, а главное, до слез обидно. За себя, за эту простреленную руку, подставленную под огонь в бесполезной геройской атаке, на город, в то время как предатели уже готовились отворить врагу двери в тыл…
Уехать с санитарным поездом не удалось. Поезд был набит. И хотя Софи, опустив раму, кричала, чтобы он забирался в окно, Барановский только покачал головой. Были вещи, которые подполковник считал для себя неприемлемыми.
Он решил присоединиться к одной из отступающих пешим ходом колонн. Мимо, через железнодорожный переезд, как раз шагала нестройно какая-то часть.
— Что за часть? — крикнул подполковник.
Кто-то из рядов бросил угрюмо:
— Тебе не в масть.
— Как отвечаешь офицеру?! Армейской дисциплины не знаешь?
— Это у тебя, господин офицер, армия. А у нас войско, — отозвался другой уже голос.
— Что еще за войско?
— Донское Всевеселое.
В темноте хохотнули невесело.
Тут только Барановский понял, что идут казаки. Под длинными шинелями не было видно лампасов. Шли остатки мамонтовского корпуса, недавно еще промчавшегося рейдом чуть ли не до Подмосковья по глубоким красным тылам, а теперь спешенного, потерявшего в зимних боях весь конный состав и множество людей.
— Куда следуете?
— К щирым кубанцам на блины. Маслену праздновать.
«И эти разложились, — подумал Барановский с горечью. — Лучше уж в одиночку голову сложить, чем с этой всевеселой сволочью».
Тем временем станция опустела.
«Хоть под колеса ложись, да ни одного поезда нет!» — ругнулся он про себя.
И, как бы откликаясь на этот крик души, во мгле засветились огни, и под стук колес выплыла из ночи платформа, которую помещали обычно впереди бронепоездов, чтобы предохраниться от мин и фугасов. За платформой возникли вагоны с башнями, оснащенные орудиями Кане, или, как называли их в обиходе солдаты, каневыми пушками, проплыл обшитый металлом локомотив, и знаменитый бронепоезд, самоуверенно названный «На Москву!», остановился на захудалой степной станции в полутора тысячах верст от советской столицы.
Одна из железных дверей распахнулась..
— Эй! Кто там! Что за населенный пункт? — закричал из освещенного тамбура офицер с эмблемой корниловского «ударника» на рукаве — под черепом и скрещенными мечами рвалась красным пламенем граната, что означало: «Лучше смерть, чем рабство».
Барановский шагнул к вагону и ответил.
— Разве это не Тихорецкая?
— До Тихорецкой верст сто.
— Вперед, господа! — крикнул офицер внутрь вагона. — Нам дальше!
— Одну минутку! — успел сказать подполковник, прежде чем тяжелая дверь захлопнулась. — Вы не могли бы взять меня с собой? Хотя бы до Тихорецкой.
— А вы кто, собственно, такой?
— Раненый офицер.
Корниловец нагнулся с площадки, рассматривая форму подполковника.
— Марковец?
— Как видите.
— Момент.
Он исчез ненадолго. Из открытой двери доносился гул неуправляемых голосов.
— Господин подполковник? — Офицер вновь появился на площадке. — Командир приглашает вас.
— Благодарю.
Офицер протянул руку и помог Барановскому подняться в вагон.
Подполковника обдала волна теплого, пропитанного табаком и спиртом воздуха, оглушил шум и гам. За маленькими столиками сидело десятка три пьяных офицеров. Солдаты то и дело подносили из-за перегородки закуски и полные графины.
Командир оказался молодым капитаном со значком Павловского военного училища. Под распахнутым кителем виднелась несвежая сорочка.
— Господин подполковник! — Шагнул он навстречу Барановскому. — Я рад оказать вам гостеприимство. Ваш мундир открывает перед вами наши стальные двери. Как видите, мы ужинаем. С известным возлиянием… Но заслужили. И мы, и вы. Приветствую соратника по оружию. Ведь мы вместе брали этот проклятый город.
Барановский чуть приподнял бровь.
— Ну, конечно, в атаку шли вы, марковцы, честь вам и хвала! А мы расчищали вам дорогу, черт подери! Вы разве не обратили внимание? У нас такой бронхитный голос.
Барановский вспомнил характерные сухие орудийные выстрелы со стороны железнодорожного моста.
— Как же… Отлично поддержали. Только все без толку — и моя кровь, и ваш порох.
— Нас в тысячный раз предали. Предательство и измена — вот что губит святую Русь. Но есть еще кровь в жилах и порох в пороховницах. Починимся в Новороссийске — надо же и передохнуть немного! — Верно? — и наш «На Москву!» двинется по назначению. Одно наше имя бросает в дрожь краснопузых. А сегодня гуляем и пьем, ели можахом… Благо, получили десять ведер спирта на технические надобности. Господа!. Прошу налить дорогому гостю!
Озябшими пальцами Барановский принял граненую стопку, а командир уже командовал:
— Алферов! Гусарскую!
Встретивший Барановского «ударник» поднялся и запел неожиданно сильным и хорошо поставленным голосом:
А по утрам пред эскадроном
Сижу в седле я, смел и прям,
И салютую эспадроном…
Вагон подхватил:
Как будто вовсе не был пьян!..
Поставленный на малый ход, потому что офицер-машинист — низшим чинам не доверяли — пил вместе со всеми, бронепоезд медленно, как безнадежно раненное животное, полз к морю, где кончалась страна и все для них кончалось, а в вагоне царило зажженное спиртом угарное веселье.
Сначала пели. Потом кто-то при всеобщем одобрении призывал расстреливать малодушных. Другой уверял, что победа неизбежна и выкрикивал стихи:
Пусть у разбитых алтарей
Сейчас мы слышим скорбный стон…
Но этих чаш заздравных звон,
Как вещий символ, нам звучит,
В сердцах уверенность родит…
Ура, Добрармия и Дон!
Ему хлопали, орали «ура!» и снова пили.
Барановский пил с Алферовым, который рассказал, что собирался стать оперным певцом, а стал артиллерийским подпоручиком, воевал под Эрзерумом, бедствовал после Октября в меньшевистской Грузии, морем выбрался на Северный Кавказ, дрался в пешем строю вместе с другими «ударниками», потому что не было пушек, а когда они появились, собирался стрелять по оскверненной большевиками белокаменной, но…
— Близко были, а теперь сами видите… А все-таки мы вам славно помогли в наступлении. Не правда ли?
— Да, — кивнул захмелевший с холоду Барановский и рассказал про вдову Африканову, чьи деньги и внутренности разметал по снегу один из снарядов, выпущенных с бронепоезда.
Пьяный артиллерист воспринял рассказ очень серьезно, нимало, не усомнившись, что вдова была убита именно его выстрелом, хотя били из всех орудий, и решительно взял грех на свою душу.
— Помянем вдову, подполковник, помянем. Хорошо, что вы мне это рассказали. Царствие ей небесное. Смерть ей послал господь, прямо скажем, превосходную. Ведь я отлично стреляю, — добавил он с гордостью. — У меня…
Он не договорил. Бронепоезд тряхнуло, и Алферов расплескал наполненную до краев стопку, так и не успев помянуть убиенную Дарью Власьевну.
Раздались крики:
— Красные!
— Фугасы на рельсах!
Машинист опрометью кинулся на паровоз.
Командир, моментально отрезвев, застегивая китель, зычно призвал к спокойствию: