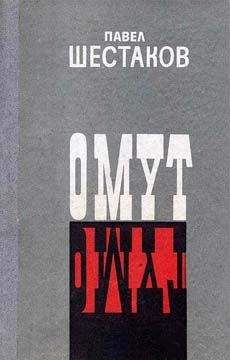Командир, моментально отрезвев, застегивая китель, зычно призвал к спокойствию:
— Господа офицеры!
Все затихли, и вокруг, в степи, было тихо.
Оказалось, на крутой выемке сошла с рельс передняя платформа. Благодаря малой скорости ничего страшного не произошло. Платформу отцепили, подтолкнули, и она сползла с насыпи, очистив путь.
Один за другим, смертельно пьяные, засыпали кто где, не раздеваясь, некоторые уткнувшись лицами в сложенные на залитых спиртом столиках руки. Бронепоезд продолжал свое фантастическое движение. Серый сумрак постепенно одолевал черную ночь…
В Екатеринодаре Барановский простился с попутчиками. Они двигались ремонтироваться в Новороссийск, он решил долечиваться здесь. Несмотря на несомненную близость катастрофы, подполковник предполагал временную стабилизацию фронта. Но город уже охватила паника. Улицы были забиты беженцами, хлынувшими отовсюду кто на чем. Барановский видел даже повозки, запряженные верблюдами. Однако и в хаосе кое-кто умудрялся сохранить чувство юмора. В местной газете он наткнулся на вирши, отклик на появление в городе «кораблей пустыни»:
Вчера у нас был карнавал,
Какого, смею поручиться,
Париж ни разу не видал,
Не наблюдали Рим и Ницца.
По нашим улицам ползли
Коврами крытые кибитки
И в край неведомый везли
Детей и женщин и пожитки.
Куда стремится этот люд?
В какую весь, в какую землю?
За всех ответил мне верблюд:
Я коммунизма не приемлю!
Барановский смял газету и с отвращением швырнул в мусорную урну.
«Ублюдок, готовый рассказывать анекдоты у гроба собственной матери!» — подумал он об авторе.
* * *
В тот же день он хоронил Федорова.
Произошло это почти невероятно даже для невероятного времени.
Подполковник шел из комендатуры, где никак не могли найти ему места для дальнейшего прохождения службы, да и не искал никто толком. С каждым часом становилось очевидным, что конец близок. «За Кубань!» — стремились тысячи скопившихся в городе людей. Остаться, не успеть значило попасть в руки победителей, переправиться — продолжить бег в неведомое, кому до Новороссийска, кому в Крым, кому в Константинополь — и дальше… Но река вздулась от мартовских дождей, и переправиться можно было по одному лишь железнодорожному мосту.
Туда и тянулись непрерывно обозы, разнообразные экипажи и экзотические кибитки.
Барановский шел навстречу этому шумному, нервному, судорожна пульсирующему потоку, когда увидел, как по другой стороне улицы тоже навстречу с трудом пробирается, прижавшись к самому тротуару, черный, о двух лошадях катафалк с закрытым глазетовым гробом с кистями. За катафалком шла молодая женщина в форме сестры милосердия. Одна.
— Софи!
Он бросился поперек потока, рискуя быть сбитым, чуть, не повис на торчащем впереди лошадей дышле, но проскочил удачно и подбежал к женщине.
— Софи!
Не останавливаясь, она подняла глаза.
— А… это вы.
— Кто там? — спросил он, указывая на гроб. — Неужели?..
— Да. Я хороню Мишеля.
— Как это случилось?
Он шел рядом с ней.
— Мишель покончил с собой.
Барановский вспомнил состояние Федорова в ночь, когда тот бешено колотил в его окно.
— Он застрелился?
Софи почему-то не ответила.
— Как же он мог оставить вас в такой момент!
— Я не виню его.
— Простите. Разрешите разделить с вами его последний путь.
— Я думаю, вам лучше поспешить за Кубань. Пока есть время.
— Я хорошо знал Михаила. Я не могу оставить вас.
— Поступайте, как находите нужным.
На кладбище в этот час никого не хоронили. После городской суматохи тут казалось особенно тихо. Дожди уже смыли последние пятна снега, и все вокруг было черным и серым, даже ангелы из белого мрамора стояли потемневшее, с влажными, отяжелевшими крыльями. За частоколом крестов показалась церковь.
Только тут молчавшая все время Софи сказал;
— Я опасаюсь, что священник не станет отпевать самоубийцу.
— Положитесь на меня.
Священник оказался полным, приземистым, с желтым нездоровым лицом. Он сочувственно смотрел на Софи.
— Горестно, милая барышня, горестно. Однако уныние есть один из смертных грехов. Мужайтесь. Много народу гибнет в это смутное время. Господин офицер, ваш жених, погиб в бою?
— Он жертва большевиков, — сказал Барановский.
— Понимаю, понимаю. Страшные времена. Сочувствую всем сердцем. Но на все воля господня. Вносите покойного. Крышку здесь оставить можно.
— Прошу вас… пусть гроб останется закрытым, — произнесла Софи дрогнувшим голосом.
Священник смутился.
— Это не положено. Покойный был православного исповедания?
— Да, православный.
Барановский вмешался твердо:
— Батюшка! Я ручаюсь честью офицера и дворянина, что вы не совершите ничего неположенного. Погибший жестоко пострадал в бою, и его невесте будет слишком тяжело…
Священник смотрел понимающе, но все еще колебался. Однако, когда Барановский, сам не представлявший, почему Софи не хочет снять крышку, полез в карман, он протестующе замахал руками.
— Что вы! Что вы! Как вы могли подумать!.. Несите почившего в храм.
В церкви в полумраке трепетали желтые огоньки свечей. Скорбные лики святых и не менее печальные лица стариков-певчих — молодые разбежались — в этот хмурый день ранней весны виделись смутно.
— Благословен бог наш всегда, ныне и присно!
Служба началась.
Барановский протянул руку Софи, чтобы она оперлась, но молодая женщина стояла твердо, глядя поверх гроба сухими, напряженными глазами.
Опустив голову, слушал подполковник хорошо знакомые слова:
— Сам един еси, бессмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми, яко земля еси и в землю отыдеши…
«И в землю пойдем, яко же повелел создавый мя, — повторил про себя Барановский. — Но почему мы раньше, чем они? Почему он так повелел? Кому принес он меч в этот мир? Неужели им, чтобы расправляться с нами? Ну что ж… Если так, если на заклание обречены мы, нам нечего терять. Нет, я не покорюсь, как Федоров… Есть и другой меч, карающий…»
Земля была черной, тяжелой, пропитанной влагой. Барановский поднял слипшийся комок и бросил вниз, в яму. Комок глухо шлепнул по глазету. Следом полетели комья, сбрасываемые лопатами могильщиков, и так и не открывшаяся крышка и то, что было под ней, навеки скрылись от человеческих глаз…
Извозчика, разумеется, найти не удалось, и они пошли пешком.
— Вы хотели знать, как умер Мишель?
Он вспомнил невесту Юрия.
— Если вам тяжело…
— Это не то слово. Я перестала жить… До тех пор, пока мы в разных мирах. Время остановилось.
— Вам нужно немедленно эвакуироваться.
— Куда?
— Мне помнится, у вас есть дальние родственники во Франции.
— Я русская. Здесь его прах. Куда же я побегу отсюда?
— Но вы обязаны спасти себя… Вы не должны стать очередной жертвой, как Михаил, если даже он и выстрелил в себя сам.
— Он не выстрелил.
По тону ее Барановский понял, что сейчас услышит страшное.
— Он положил голову на рельсы.
И хотя подполковник за время войны видел и слышал так много страшного, что почти привык к нему, ему все-таки стало не по себе, когда он вспомнил, как что-то глухо стукнуло в гробу, когда тот качнулся на веревках в руках могильщиков.
— Я целовала эту голову, как Маргарита Наваррская, как Матильда де ля Моль. Она осталась здесь, в этой земле. И вы думаете, это можно забыть и спокойно доживать век в компаньонках у двоюродной тетушки в Ментоне?
— И все-таки прошу вас! Вы еще очень молоды. Вам предстоит жить, а не доживать. Вернитесь в истинное отечество. Там, среди цивилизованных людей, постепенно развеется русский кошмар.
— Вы думаете, там невозможен большевизм?
Барановский так не думал, но сказал:
— Франция — не Россия.
— О, да! Потому я и стыжусь своей фамилии. Они могли спасти нас. В прошлом году пара дивизий каких-нибудь зуавов или сенегальцев могла принести нам победу. Но они пожалели своих негров, чтобы умер Мишель. Я никогда этого не прощу. Я бы хотела носить только одно французское имя — Шарлотта Кордэ.
Софи выговорила это так страстно и убежденно, что Барановский понял: повлиять на нее невозможно.
— Что же вы намерены делать?
— Я останусь здесь.
— И что же?
— Если мужчины, подобные вам, будут продолжать борьбу, я буду с вами.
— А если все уже погибло?
— Я тоже погибну. Но с оружием в руках. Нельзя сохранить то, что вы называете цивилизацией, не уничтожая варваров.